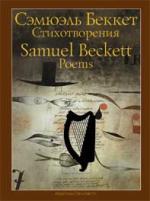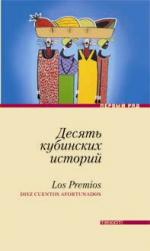Большие желтые машины со сложенными клювами помешают сказочному городку! Он должен вырасти, твердо сказал папа, в самые ближайшие дни, а эти по хозяйски расселись, как большие птицы… может, не знают, что запланирован городок?
Потливой ночью, разбавленной тревожным шепотком в коридоре, Велька, уже, казалось, утонувший в складках трудно наступавшего сна, вдруг сел в постели и хлопнул себя ладонью по лбу, как взрослый. И сказал тихо, чтобы слова не вышмыгнули из комнаты: «Ёлки-моталки!». Конечно, машины возникли строить сказочный городок. Он ведь не гриб и не дерево, он самостоятельно не вырастет из земли. Радостно засыпая, Велька подумал мельком, что он все таки еще очень маленький и, не взирая на все пятерки, часто не понимает самых простых вещей. Понимает, но не сразу соображает. «Тугодум», есть такое слово. Да, еще маленький, пусть не такой, каким его считает бабушка, которая в корявых коричневых калабахах, сваленных у боковой стены зеленого здания театра, отказывалась признавать декорации из оперы «Садко», куда Вельку водили вместе с двоюродной задавакой Ксаной.
Тогда стояла осень, по городу вывесили штормовое предупреждение, ветер гнал мимо театра лавину золотых листьев, которые, потрепавшись на декорации, оседали в Крюковом канале, а там, несмотря на холод, пыхтел трубой туристический кораблик, и доносился тенорок экскурсовода — «А всего у Александра Сергеевича в нашем городе около двухсот адресов». Бабушка смешная… будто Велька не понимает, что декорации выполнены из картона и разбираются по частям. Они не растут на сцене, и сказочный городок на площади не растет. Все это строят люди.
Следующим днем, когда возвращались к обеду, Велька потихоньку увлек маму в сторону от прямого пути, чтобы пройти через ратушную площадь. Мама отвлеклась, сжимала велькину руку крепко, почти больно (он вежливо регулировал напор вращением кисти) и позволила себя сбить с маршрута: лишь у ратуши удивилась, что они вышли к своей улице с другой стороны. Машины вытянули клювы, которые оказались, как Велька уже предположил, кранами, а на площадь сгружали толстые связки коричневых ребристых щитов, и Велька, проходя мимо одной из стопок, небрежно постучал по дереву и глянул на маму. «Будут домики строить». Мама кивнула. Лицо усталое, невеселое, нос будто вытянулся и на кончике его набухала капля. «Скоро праздник», — сказал Велька. «Праздник еще… через полтора месяца, — сказала мама. — Ты будешь уже… — мама закашлялась, — Пойдем всюду гулять, пойдем в цирк». «И на хоккей, папа обещал», — сказал Велька. — «Да». — «А городок откроется за месяц до праздника» — «Примерно» — «Папа сказал, ровно за месяц» — «Хорошо… Значит, скоро». Деды Морозы, по-здешнему Николаусы, махали рукавицами, оседлав сосредоточенных пятнистых оленей, из каждой витрины, а в Петербурге, когда Велька улетал, новогодних изображений еще не было.
Есть он последнее время совсем не хотел, пожевал кое как оладьи, испеченные доброй, но бестолковой, знающей не больше десятка русских слов тетей Кларой, нехотя залез в кровать, прикрыл глаза. По зыбкому экрану на обороте век пробежала наискосок шустрая струйка пятен, как оленья упряжка, еще раз, еще. Дед Мороз из пятен не складывался, Велька больно надавил пальцами на глазницы: ему почему-то запрещали это делать, а такой вспыхивал в этом момент в голове волшебный узор, серебряный, ртутный, разбегающийся круговым веером, как компьютерная заставка! Компьютер сейчас был очень дозирован, после отдыха допускалось полчаса телевизора. Велька досмотрел начатый позавчера фильм про львенка и инопланетян. Потом гулял с мамой у церкви, где был мягкий резиновый асфальт, черный, покрытый сейчас серебряной пленкой инея, а рыжий Лукас снова пришел с футбольным мячом, и они пинали мяч прямо в стену церкви. В первый раз мама хотела им это запретить, но так поступали все дети. Велька почти не говорил по-немецки, только этой осенью, во втором классе, начались уроки языка, но с Лукасом подружился сразу. Лукас еще приносил маленький хитрый фонарик: он на заказ мог вечером высвечивать на бугристых камнях, из которых сложена церковь, белые, желтые или красные круги. Лукас научил Вельку слову «шайссе», а Велька объяснил новому другу, как это будет по-русски на букву «г».
В тот же день, или на следующий, или на два дня позже, Велька, возясь перед ужином с учебниками, наткнулся в хрестматии на стишок, который недавно читал с папой безо всякой хрестоматии.
Иван Торопышкин пошел на охоту
С ним пудель пошел, но увидел топор,
Его проглотил, провалился в болото,
Минуя забор.
За стишком шел вопрос — «Как автор обыгрывает фамилию героя?». Велька вдруг заскучал по Петербургу, по своему классу, по Мите Корочкину, другу по парте, и митиной сестре Люде, которая сидела как раз перед Велькой и которую он весь первый класс хотел, но не решался дернуть за косичку, а в этом сентябре наконец-то дернул. Люда быстро обернулась и остро отточенным карандашом больно ткнула Вельку в руку, и глаза у нее тоже были острые, быстрые, но в тот момент она в лицо Вельке не глянула, только ткнула.
Вообще, конечно, все ребята сейчас завидуют, что он в Берлине, особенно когда подступил Новый год и на немецких улицах появляются сказочные рождественские ярмарки. Видеофильм о такой ярмарке показывала в классе Наталья Сергеевна, и у Вельки как-то по-особому прыгнуло сердце, когда он увидел толстый елочный венок, краснолицых людей в красных шапках, поднимающих кружки с горячим чаем, резные домики со сластями и сосисками. Велька уже знал, что в Германии именно на Рождество особые, ни с чем в мире на сравнимые сосиски, и есть даже специальная их порода длинною в полметра. Это почти две школьные линейки, если продлить одной другую. Папа обещал поехать с Велькой в Берлин следующим летом, а когда-нибудь — и на Рождество. Но так все закрутилось, что вдруг собрались да приехали прямо после первой четверти. И сейчас, медленно водя карандашом по бумаге, Велька подумал, что они, Митя и Люда, может и не очень о нем вспоминают, может к Мите уже кого-нибудь и подсадили. Вспомнился школьный двор, в котором красовался отреставрированный, блестящий скульптурный мальчик с горном, такой порывистый, приставший на носочки, что Велька тоже сразу захотел научиться играть на горне. Он сделал движение плечами, повел назад лопатки, как крылышки, стал вытягиваться вверх и вперед, тут на страницу учебника, на портрет пуделя, шлепнулась большая красная капля, и все поехало. Прибежала мама, его рано уложили в постель, он быстро уснул, но ночью проснулся и опять долго возился, экспериментальным путем устанавливая оптимальное положение двух подушек: они были не квадратными, как дома, а прямоугольными. Из коридора сочился бледный луч, а по улице редко-редко, но проезжали ночные автомобили, и уже другой луч, короткий, но более яркий, скользил по потолку, и Велька хотел застать, как два луча совместятся, встретятся… не получалось!
Теперь Велька каждый день просил маму идти после процедуры через ратушную площадь. Из ребристых щитов собрали домики, они стояли в четыре шеренги, штук, может быть, пятьдесят, закрытые и одинаковые, но в какое-то утро домики оперились по макушкам еловыми ветками с красными лентами, на следующий день на двери одного из них возникла табличка «КАКАО», а на крыше другого небольшой стол с чайником, а еще через день за этим столом уже сидела разноцветная семейка гномов, и встала рядом с чайником тарелка с круглыми пряниками — такими же, какими пичкала Вельку тетя Клава. Сейчас он совсем не ел сладкого: с неделю назад отравился этими самыми пряниками, мягкими, с бежевым исподом и нежной шоколадной поверху шкуркой, съел четыре штуки нахрапом, а потом его тошнило, и живот не переставал много часов.
Вельку перестали водить на детскую площадку к церкви. Они теперь после обеда уходили с папой подальше, в раскинувшийся за железнодорожным мостом пустынный парк с круглым озером, двумя или тремя бетонными ватрушками в роли памятников и множеством деревьев — лиственниц, как говорил папа, и дубов, которых Велька сам отличал по листьям и желудям, валявшимся внизу вокруг их могучих стволов. Желудей, впрочем, попадалось мало, и лишь мокрые и гнилые, и обещанный гусь-лебедь отсутствовал на озере. «Улетел в жаркие страны?» — «Я точно не знаю, может у него где-то тут убежище» — и легкий бесплотный снег летал над водой, и таял на ладони: у Вельки были перчатки на резинках, продетых в рукава куртки, но папа считал, что по такой погоде перчатки не обязательны. Вечерние учебники отменились, ложится Велька стал раньше, и засыпал быстро, под голос актера с аудиокниги или папы, читавшего из «Приключений маленького башибузука».
Телевизор тоже временно отменился, только в какой-то день папа смотрел футбол, сборную России, и недовольно пыхтел, говорил «елки-моталки»… Вельке разрешили посидеть рядом, но недолго, отправили в постель, и все были недовольны: и Велька, переживавший за папу, которому очень не нравилась игра (сам Велька не слишком разбирался: то есть, он понимал, что такое счет, и мог узнать, в чью он пользу, но близко к сердцу не брал), а потом, уже в полудреме, мамин голос выговаривал за приоткрытой дверью «как ты можешь теперь футбол…», а папа бубнил в ответ, слова расплывались, как акварельная краска, размазанная по стеклу.
Назавтра по дороге в парк Велька и папа надолго остановились на мосту и наблюдали за прохожящими поездами. Недалеко от моста рельсы вышныривали из-за поворота, поезд слышно издалека, но перед поворотом была ложбина, закрытая заснеженной вечнозеленой декорацией, и секунду, в которую появится паровоз, нужно было угадать хлопком ладоней. Сначала дважды победил папа, потом поезда долго не было, совсем потемнело, розовая луна утопала в шерстяных тучах, как елочная игрушка. Велька отвлекся, вспомнил бабушку, как собирали с ней давно еще, во младенчестве, елку, и бабушка уронила огромный елочный шар, белый, как снег. Шар разорвался на тысячи блесток, а бабушка вскрикнула, даже скорее взвизгнула каким-то незнакомым голосом… примерно так визжала на даче в Носовке задавака Ксана, когда Велька бросил ей на платье живую лягушку. Бабушка схватила Вельку, как ребенка, и посадила на диван, побежала за веником, а тут прошла по тучам едва заметная тень дыма, Велька почуял, как под ногами, в перекрытиях моста, нарастает тугое гудение, хлопнул в ладоши, а папа опоздал. Паровоз на этот раз почему-то разразился сиплым гудком, а Велька успел увидеть с моста красную глубину кабины, в которой орудовал лопатой плохо вмещавшийся туда, тоже красный, голый до пояса кочегар-богатырь. «Папа, а мы поедем на поезде?» — «Мы поедем на поезде в Потсдам. Это близко, меньше часа. Ты поправишься, и сразу поедем». — «А далеко? Ты обещал далеко…» — Велька с папой уже трижды путешествовали из Петербурга в Москву и обратно, и Вельке очень нравилось, как медленно отталкивается от вагона и уплывает назад перрон, полный фонарей, носильщиков с тележками, провожающих с кругляшками разинутых ртов, нравилось плавное шипение вагонных дверей, дребезжание чайного стакана в подстаканнике, которые, по словам папы, только в дальних поездах и остались, нравилось, как полевая дорога, необычайно живо виляя хвостом, перебегает дорогу самому поезду, оставляя урчать у шлагбаума приземистого мотоциклиста в толстых очках-сковородках — «Далеко? Далеко мы сейчас не сможем… надо будет вернуться домой ко второй четверти. Может быть, летом» — «А мы приедем сюда летом?» — «Наверное. Я пока точно не знаю. Пока будем гулять по Берлину… Вот еще несколько дней, ты поправишься и будем много гулять. Залезем на телевизионную башню, весь город виден!» — «И на хоккей?» — «Ты ведь у нас не очень болельщик… Да, можно и на хоккей». Велька действительно не болел за спорт, но у Люды и Мити старший брат был хоккеистом, потому здорово бы сходить в Берлине и рассказать. «Папа, а ты обещал купить карту Берлина» — «Да-да, карту… непременно» — «А давай купим сегодня!»
Карту собирались приобрести сразу, в первые дни. Вельке почему-то, едва он оказался в Берлине, стало легче дышать, и главный из врачей, высокий, как директор школы, в ромбовидных удивительных очках, вставлял в разговор «карашо!», и поехали все вместе, и с папой и с мамой, в зоопарк, у входа были козы, воздушные, прыгучие, как нарисованные в мультфильме, потом вдруг высунул голову из-за дерева статный жираф, окинул Вельку строгим взором, тут и скрутило живот, как никогда еще не крутило, и Велька даже потерял сознание, очнулся лишь вечером в постели, и под розовым кисельным потолком плавали лицо тети Клары, лицо мамы, незнакомое усатое чье-то лицо, а за ним хитрая физиономия жирафа: поездки далеко от дома на том прекратились, и о карте забыли.
Вечером, невзирая на протесты родителей, Велька развернул карту, вооружившись лупой, линейкой и карандашом. Он совсем недавно пристрастился к толстому атласу Петербурга, обнаруженному у папы в кабинете: каждая страница карты повторялась рядом в виде фотографии из космоса, со спутника, и Велька даже видел детскую площадку в своем дворе, хотя, например, мама утверждала, что это просто тень тучи, а площадка выглядела бы не так. Только по этому большому атласу Велька выяснил, что живет на Казанском острове (мама с папой сказали, что знали да забыли, а бабушка утверждала, что это новомодная придумка и раньше улицы города по островам не делили), а Митя и Люда, хотя и в пяти минутах ходьбы через один крошечный мост, уже на Коломенском острове. Сейчас у Вельки кружилась голова, а едва он нырнул с лупой в хитросплетение улиц и в маленький шрифт немецких улиц и площадей, как она закружилась еще сильнее, заболели внутри и заслезились глаза… однако Велька успел мельком исследовать район вокруг дома тети Клары и обнаружил, что за тем парком, куда он ходит с папой, начинается лес с большими озерами, а за ними — хоккейный дворец! «Да… надо же. И дорожка проложена. Но это часа полтора идти…» — «Мама говорит, что мне уже скоро будет лучше» — «Да-да, лучше… конечно» — «Смотри, мы можем с нашего моста идти прямо, не сворачивать» — «Да, так и пойдем». Тут голос папы сорвался, словно кубарем с горки, папа покраснел, гулко забулькал и быстро вышел из комнаты.
Во всех домиках в городке у ратуши уже кипела жизнь, стены их украшались гирляндами, на крыши заселялся сказочный народ: грустил одинокий ангел, спешил вдаль сизый лось, влек за собой сани с двумя Николаусами, белочка в клетчатой жилетке щелкала орехи (то есть, примерялась, но папа предположил, что она заводная и с открытием городка ее запустят), лиса и волк подозрительно смотрели друг на друга, ожидая, когда закончат композицию и станут ясны их роли в задуманной сценке. Рабочие в синих коротких куртках поверх обычной одежды ходили туда-сюда с инструментами, тянули черные и синие провода и шланги, а на крыше одного из крайних домиков даже сидел запросто неофициальный живой мальчик, чуть старше Вельки, и держал в руках большую отвертку. В тот же день прогуливались тут вечером, и сбоку от ратуши Велька заметил тихую платформу, на которой покоились две защитного цвета громадные трубы, ни дать ни взять военно-космические ракеты: с папиной помощью удалось опознать в них башни для картонного замка, который бодро начали монтировать уже с утра, и Велька вновь видел того же мальчика, худенького, лохматого, в расстегнутой не по-погоде осенней тужурке, и даже без шапки: он деловито расхаживал среди рабочих и по-прежнему держал в руках какой-то инструмент.
Утренние походы к врачам прекратились, но живот болел и расстраивался гораздо больше обычного, и Вельке все чаще приходилось совершать по загнутому буквой «г» коридоры экспедиции в туалетную комнату, которая располагалась выше уровня остальной квартиры, нужно было подняться по трем ступенькам, а само санитарное приспособление внутри туалетной находилось еще на одном возвышении, в одну ступеньку, а под самым потолком блестело маленькое окошечко, за ним небо, ясные, резкие крики птиц. Одна как-то раз даже попыталась шумно втиснуться в форточку, под которой восседал Велька, не пролезла, противно фыркнула и упорхнула, обронив Вельке на колени мятое перо: оно было мокрым, и дурно пахло, и Вельку стошнило.
Мама объясняла, что болит потому, что Вельке стали давать меньше лекарств: дело идет на поправку, надо лишь немного потерпеть, пройти еще немного процедур, и все пройдет. В туалет теперь приходилось вставать и ночью, иногда и дважды. Тетя Клара прибегала с металлическим ночным горшком в руке, на коричневом побитом боку его виднелась наполовину соскобленная оса. Горшок забраковали, и мама переехала на кушетку в комнату Вельки, провожала его ночью до уборной и ждала сама в смежной ванной комнате, и однажды Велька, не целиком выпутавшийся из сна, задремал прямо на унитазе, и ему показалось, что мама поет. Что-то незнакомое, протяжное, каким-то новым, хотя и похожим на свой глубоким голосом, что-то про ночную реку и плывущие по ней венки, про то, как девица плетет венок из ромашек… Велька очнулся: мама действительно пела за дверью, и почему-то погасли в уборной лампы, дышала тяжелая теплая темнота, лишь в окошке под потолком вспыхивала с равными промежутками желтая световая игла, и мамин голос, казалось, приходит из глубокого космоса, будто ее захватили и уносят в глубины вселенной космические пираты — тут Велька вскрикнул.
Кажется, вечером как раз перед этим случаем Велька подслушал, возясь в своей комнате с пластилином, разговор родителей, кусочек которого как бы оторвался от остального разговора и был занесен сквозняком. «Герр Вайс говорит, шансы тридцать процентов». «Ему хватит» — папа отвечал уверенно, жестко, немного незнакомым голосом. Родители в последние дни говорили иначе, одновременно громче и тише, словно у них внутри сломались и зажили собственной чехардой рукоятки, отвечающие за уровень шума. «Тридцать процентов это много. Ему хватит… он сможет, он очень сильный».
Велька тогда не сообразил (тугодум!), о ком сказано «сильный», но он хорошо стоял по математике, лучше всех в классе, и точно знал, что тридцать процентов это немного. Хотел даже выйти и сказать папе, но пластилиновая фигурка (Велька лепил телевизионную башню) скомкалась в руке, и нижняя ее, основная часть, как раз, наверное, по высоте тридцать процентов, собрала на себя остальной истонченный пластилин, и время тоже скомкалось, чтобы опять расправиться вот здесь, в темной ночной уборной, острой пружиной, и Велька вскрикнул, и мама тоже вскрикнула: она тоже задремала и что-то впрямь напевала сквозь дрему. Дни стали путаться, Велька теперь долго спал после обеда, просыпался уже в сумерках и сами собой прекратились долгие прогулки за железнодорожное полотно, а у ратуши поставили огромного, в рост картонного замка, Николауса, и он почти тут же приснился, словно был поставлен сразу во сне. Проценты были нарисованы в витринах всех магазинов, разные, с хвостиками и с рожками, красные и зеленые, Велька ловил их и складывал, но проценты скоро превысили цифру сто, а скоро и тысячу, и затерялись.
На кухне у тете Клары висел большой картонный календарь: они с Велькой уже несколько дней назад обвели синим карандашом тот понедельник, в который, за месяц до праздника, открывался праздничный городок. Мама как раз зашла на кухню с двумя пакетами молока: синим и зеленым. «Мама, а что еще будет на ярмарке? Сосиски в полметра…» — «Еще я помню, банан в шоколаде… Сразу его попробуем! И много-много игрушек. Ангелы, вертепы…» — «Вертепы? Это что?» — «Ты просто забыл. Возьми-ка ту книгу…». Рядом с календарем висела старинная картинка: семья на лужайке у дома, дом горит, но семья довольная: потому, что удалось спасти всех, у мальчика на руках собака, а у девочки поменьше — котенок. Вокруг понедельника, обведенного синим цветом, между мамой, тетей Кларой и папой возникла мгновенная вспышка на немецком языке, Велька не понял, в чем дело и кто за кого. Люди иногда могут поссориться безо всякой причины в одну минуту, так однажды на дне рождения Вельки Люда и Ксана сразу, едва познакомившись, зашипели друг на друга, Ксана кинула в Люду клубок, тот размотался, а Велька так и не сообразил, как их помирить, и предоставил разбираться самим.
В последнее воскресенье с утра мама с папой умчались по делам, а с Велькой ненадолго — у него все расстраивался желудок и с новой силой слезились глаза — вышла к сказочному городку тетя Клара. Все было готово, в некоторых домиках уже кипела жизнь, створки их распахнулись и продавцы раскладывали завтрашние товары: домик с разной формы и величины звездами (плоские картонные и тоже картонные, но с фонарями внутри, стеклянные, даже железные, выгнутые, словно снятые с рыцаря) — домик с вязаными шапками и шарфами — домик, полный мелкого хрустального блеска и звона. По всем углам городка раскрыли гостеприимные глотки щелкунчики в виде урн, в окошке нового — не домика, а небольшого киоска, довезенного, похоже, буквально вчера, стояла гора кружек и изображением ратуши и елки перед ней, причем ратуша была нарисована очень похоже, а елка не очень, тщедушная. Настоящая стояла громадная, высотой с замок, перепоясанная лунами и звездами, красными и белыми лентами, увешанная шарами величиной с арбуз, и мир по ее краям был расплывчатым и зудящим, как все в последние дни, но саму елку Велька видел очень четко, без болезненных искажений, с прозрачной ясностью: она словно продолжала вот прямо сейчас расти, захватывала дух, рвалась в небо и будто дышала навстречу.
Родителей встретили у дома, они быстро шли с большими белыми свертками, папа сутулый больше обычного, весь в черном, и высокий его цилиндр непонятно как держался на голове, под опасным углом наклонился к асфальту. Мама, наоборот, спешила, откинувшись немного назад, выставив, словно для обороны, руки в муфте, неловко выбрасывая перед собой ноги в сафьяновых сапожках. Завтра открывается городок! — воскликнул Велька. — Папа, мама, пойдем сразу… с утра? Нет-нет, — быстро замотал головой папа. Утром у тебя еще процедура. На праздник не сразу… вечером. Ты говорил сразу, растерялся Велька, и почувствовал, как дернулась нижняя губа. Это тоже будет сразу… просто утром надо в больницу… Ты почти поправился, осталось главное… недолго, не переживай. Он и не переживает. Правда, Велька?
Конечно, он не переживал, и даже не заметил, как прокатилось воскресенье. Можно было смотреть телевизор и включить компьютер, но Велька больше слонялся по квартире, несколько раз, даже без необходимости, доходил до туалета, отмечая, что в одну сторону получается «г», а в другую немецкая L, но с развернутым хвостиком, смотрел в окно… Вечером даже ощутил бодрость, на удивление плотно поужинал макаронами с жареной оранжевой рыбой, сам выжимал на нее сок из нелюбимого, вообще-то, лимона. «Завтра», — говорил папа в телефон в темноте коридора. Старые часы сухо отламывали дольки времени, зашел полосатый упитанный кот, мельком глянул на место, где могла быть кукушка, но там лишь болталась пустая пружина. Никакого кота не было… ах, это тете Кларе доверили на две недели соседи, уехавшие в отпуск. Вы подружитесь. Можно поставить аудиосказку или почитать, но недолго, завтра рано вставать. «Завтра» вновь звучало из коридора, в полусне, Велька сам себе тоже напомнил — «Завтра!» — и улыбнулся. Дверь чуть скрипнула, кот пересек бледный луч, чем-то шуркнул.
«Рассказы Сирина» — цикл новелл, стилизованных под ранние произведения Владимира Набокова. В «Рассказах Сирина» так же, как в реальных рассказах Сирина, действие происходит в Берлине (только в современном), герои, в основном, русские, сюжет на полтора-два хода, ну и задействованы, по возможности и необходимости, любимые набоковские мотивы. В «Рождественском рассказе» (первый публикуемый текст цикла) из таких мотивов — железная дорога, сны больного ребенка, туалетная комната и другие укромные места, витрины с рекламой… И — опять же «по набоковски» — внутри рассказа спрятана подсказка (и не одна!): хорошо или плохо закончится дело.
Вячеслав Курицын