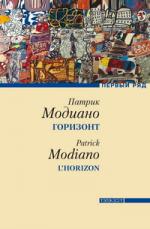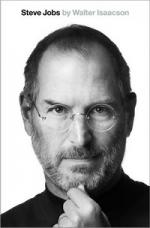- Издательство «Текст», 2012 г.
Чисто «женским делом» всегда считались прядение, ткачество, изготовление одежды.
Неожиданным образом эти, казалось бы, прозаические занятия объединяют, чуть ли не всех наиболее выдающихся женщин античной мифологии: дитя Зевса Афину, роковую красавицу Елену, верную супругу Улисса Пенелопу, одержимую преступной гордыней Арахну…
Ироничный взгляд на известнейшие мифы позволяет нам связать мифологические образы с реалиями современной жизни, открывая механизмы, определяющие поведение и роли женщин и мужчин во все эпохи.
Франсуаза Фронтизи-Дюкру — одна из ведущих французских специалистов в области античной истории и мифологии, автор многочисленных книг, преподаватель Коллеж де Франс.
и разговорами. Похоже. До ужаса. - Перевод с французского Елены Лебедевой
- Купить книгу на Озоне
«Достоинство женщин составляют в физическом
отношении красота и стать, а в нравственном —
целомудрие и трудолюбие без несвободы». Весьма
известное утверждение принадлежит Аристотелю
(Риторика, I, 5, 1361 а). Вспомним его контекст.
Философ пространно рассуждает об условиях счастья
как о цели, к которой стремятся люди. Достичь
счастья можно при наличии условий: хорошего
происхождения, богатства, репутации, здоровья,
друзей… Есть среди условий и такое, как обладание
удачным потомством, хорошими детьми.
Аристотель уточняет: стать и красота (megethos kai
kallos) есть телесные достоинства обоих полов, целомудрие,
или умеренность (sophrosune), — духовное
достоинство. Для детей мужского пола важны
при этом сила и дух соревнования — (dynamis
agonistike), а также храбрость (andreia). Что же касается
девочек, то их специфическую добродетель
составляет «трудолюбие без несвободы» (philergia
aneu aneleutherias). Определение получилось довольно
путаным, похоже, философ испытывал в
этом месте известное замешательство.
Дело в том, что здесь обнаруживается важный
стереотип греческой культуры. Главными
достоинствами женщины, начиная с эпических времен, считались красота и мастерство в производстве
«прекрасных творений» (erga kala).
Именно этот критерий определял ценность пленницы.
Героини: большая часть богинь, царицы
и царские дочери, их служанки и рабыни — все
должны были мастерски обрабатывать шерсть.
Восходившая к Гесиоду традиция утверждала,
что это боги придали такое неизменное качество
женщине. Зевс приказал Гефесту слепить прелестную
деву по образцу бессмертных богинь —
«мужам на погибель» (Гесиод. Теогония, 608).
Афродите он велел «обвеять ей голову дивной /
Прелестью, мучащей страстью, грызущею члены
заботой». Гермесу — вложить в ее грудь «льстивые
речи, обманы и лживую, хитрую душу». А
Афине, которая «все украшенья на теле оправила», Зевс поручил «научить ее ткать превосходные
ткани» (Гесиод. Труды и дни,
В. В. Вересаева).
Так появилась Пандора, праматерь всех женщин;
это боги создали ее способной обрабатывать
шерсть. Происходящие от нее женщины, таким
образом, «запрограммированы» пряхами и ткачихами.
Впрочем, кажется, они унаследовали и любовь
к этому ремеслу.
В Кабинете медалей Национальной библиотеки
Франции в Париже хранится краснофигурный
лекиф (илл. 3), т. е. флакон для масла или ароматических
притираний, V в. до н. э. (BNP, ARV2,
624,81). Изображение женщины с прялкой сопровождается
надписью: «трудолюбивая» (philergos).
Прядильщице приписывается как раз та добродетель
— philergia, которую так ценил Аристотель.
Однако в V и в IV вв. до н. э. слово, обозначавшее
любовь к труду, звучало уже не так, как в эпических поэмах или как у автора «Трудов и дней».
Гесиод очень высоко ценил повседневный труд
крестьянина (erga), изнурявший мужчину, в то
время как его супруга, как правило, наслаждалась
отдыхом. Эпос противопоставлял женскому
рукоделью усердие мужчин в ратном труде. В то
же время физическая работа не бесчестила героя.
Одиссей был одновременно прославленным воином
и царем-пахарем, царем-плотником. С топором
он обращался так же ловко, как и с луком.
Речь не идет о том, чтобы использовать понятие
philergia для характеристики представлений греков
о труде, это было бы анахронизмом (Vernant
1965). Вместе с тем полезно подчеркнуть, что труд
в демократическую эпоху подвергался некоторому
обесцениванию. Свободный человек мог быть ремесленником
или торговцем, подобно персонажам
Аристофана, но осознавал он себя прежде всего
гражданином, участником политической жизни.
Ручной труд считался уделом рабов. И philergia почиталось
качеством, свойственным рабу или…
женщине. Ибо, не участвуя в политической жизни,
жена или дочь гражданина сама по себе не являлась
гражданкой, и, следовательно, ее ручной труд
не имел никаких негативных коннотаций. Даже
напротив. Нужно же ей было чем-то заниматься.
Это обстоятельство настойчиво подчеркивал
Ксенофонт, когда давал советы мужьям молодых
жен и призывал их следовать примеру рассудительного
Исхомаха (Ксенофонт. Домострой, VII).
Вот этим и объясняется не слишком внятное
определение Аристотеля. Главное достоинство женщин,
дочерей на выданье, радующее отцов, философ
видит в трудолюбии (philergia). Но внимание:
усердие к труду ни в коем случае не должно связываться с целью, недостойной свободного индивида.
Для уточнения этой важной подробности требуется
двойное отрицание: «без несвободы» (aneu
aneleutherias). Речь идет о девицах из хороших семей.
Здесь не может быть речи о выгоде, рентабельности
стремлении заработать. Подобно эпическим
героиням, молодая супруга Исхомаха прядет и ткет,
производит прекрасные вещи, но она умеет, кроме
того, управлять служанками и распределять между
ними работу.
Суждение Аристотеля относится к его современницам,
дочерям и будущим супругам афинян.
Они в полной мере наделены перечисленными
философом достоинствами. Счастье мужчин зависит
от красоты женщин, их целомудрия и послушания,
но также и от их усердия в выделке шерсти.
Можно предположить, что эта точка зрения была
весьма распространена задолго до Аристотеля и
еще долго после него.
Но применимы ли критерии философа к героиням
легенд? Между эпохами архаики и классики,
между миром мифов и социальной реальностью,
на которую опирается Аристотель, — дистанция
огромного размера. В то же время «Греция воображения» (Buxton 1996) остается существенной
составляющей внутреннего опыта древних греков.
Итак, соответствовали ли хоть в чем-то мифологические
образы женскому идеалу демократического
периода? Вне всякого сомнения, они величественны
и прекрасны. Но как обстоит дело с
их моральными качествами? И прежде всего —
со столь желательным согласованием целомудрия
и трудолюбия (sophrosune и philergia)? Вопрос побуждает
нас пересмотреть некоторые традиционные
женские образы под особым углом зрения,
через посредство рукоделья, которым занимаются
героини. Мы посмотрим на вещи «через насечки
челнока», чтобы попытаться понять смысл слова
philergia. Составляет ли трудолюбие самостоятельное
достоинство девушки? Или же оно призвано
обеспечить второе, дополнительное качество —
целомудрие? Ведь прядение и ткачество занимают
руки и ум, препятствуя праздности и дурному
поведению? А само изделие, выходящее из рук
женщины, — оно имеет какое-нибудь значение?
Обладают ли «добавленной стоимостью» произведения
мастериц? Наконец, можно ли оценивать
«прекрасные творения» (erga kala) на равных
с произведениями мужского мастерства — украшениями,
оружием, предметами мебели, выделка
которых вызывает восхищение? Рискнем
употребить анахронизм и назвать erga kala произведениями
искусства. Так вот, связывалось ли
художественное творчество с женщинами в воображаемом
и в коллективном бессознательном
греков? Ибо само понятие художественного творчества
в применении к античности анахронизмом
не является. Мы встречаем его уже у Гомера, когда
он говорит о столь важном для аэда поэтическом
вдохновении. И совершенно отчетливо оно проявляется
в эпизоде со щитом Ахилла; здесь речь идет
об изобразительном искусстве.
С нашими вопросами мы обратимся к женским
образам, которые в повествовательной традиции
прядут и ткут шерсть. Это Пенелопа, Елена,
Филомела и ее сестра Прокна. Наконец, это, разумеется,
Арахна.
В то же время мы включаем в список Ариадну,
разматывающую клубок, — в ее нити тоже содержится
свидетельство обработки шерсти.
Подбор наших персонажей может показаться
разнородным. В самом деле, о некоторых из них
сохранилось множество текстов, образы их трактовались
по-разному на протяжении античных
времен. А о других сохранились лишь редкие,
фрагментарные свидетельства, с трудом поддающиеся
датировке. Но наш подбор станет еще парадоксальнее,
когда мы прибавим к списку совсем
малозначительную героиню. На первый взгляд
она вообще не имеет ничего общего с работами
по шерсти. Это молодая коринфянка, которой традиция
приписывает определенную роль в изобретении
искусства. И как раз именно она, вопреки
хронологии, откроет наше путешествие, несмотря
на признанную древность и знаменитость главных
героинь. Ибо именно история скромной дочери
горшечника, что появляется у истоков искусств,
высвечивает вопросы, важные для современного
понимания вещей. Она ценна тем, что отвечает
тайным мечтаниям женщин-художников сегодняшнего
дня.