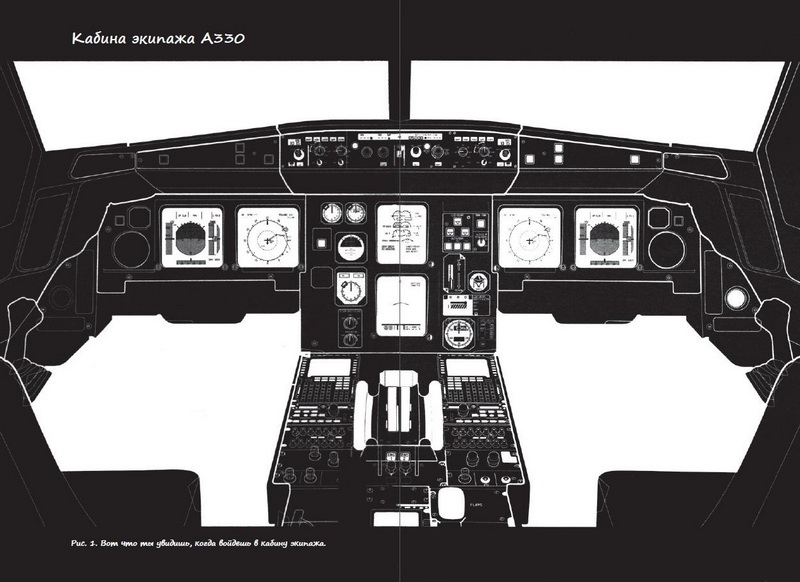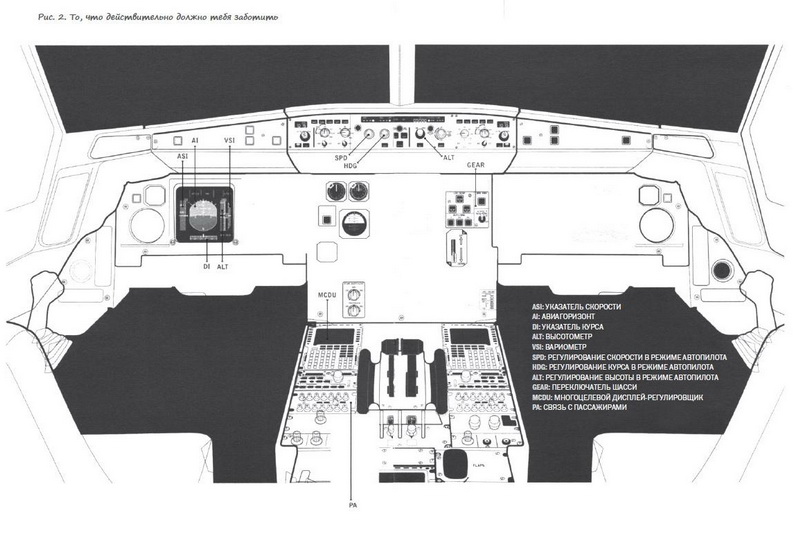Отрывок из романа
Купить книгу на Озоне
Бывают занятия, спасительные в минуту душевной
невзгоды. Растерянный ум понимает, что и в какой последовательности
делать — и обретает на время покой.
Таковы, к примеру, раскладывание пасьянса, стрижка
бороды с усами и тибетское медитативное вышивание.
Сюда же я отношу и почти забытое ныне искусство сочинения
книг.
Я чувствую себя очень странно.
Если бы мне сказали, что я, словно последний сомелье,
буду сидеть перед маниту и нанизывать друг на
друга отесанные на доводчике кубики слов, я бы плюнул
такому человеку в лицо. В фигуральном, конечно,
смысле. Я все-таки не стал еще орком, хотя и знаю это
племя лучше, чем хотел бы. Но я написал этот небольшой
мемуар вовсе не для людей. Я сделал это для Маниту,
перед которым скоро предстану — если, конечно,
он захочет меня видеть (он может оказаться слишком
занят, ибо вместе со мной на эту встречу отправится целая
уйма народу).
Священники говорят, что любое обращение к Сингулярному
должно подробно излагать все обстоятельства
дела. Злые языки уверяют — причина в накрутках
за декламацию: чем длинее воззвание, тем дороже стоит
зачитать его в храме. Но раз уж мне выпало рассказывать
эту историю перед лицом вечности, я буду делать
это подробно, объясняя даже то, что вы можете знать и так. Ибо от привычного нам мира вскоре может не
остаться ничего, кроме этих набросков.
Когда я начинал эти заметки, я еще не знал, чем
завершится вся история — и события большей частью
описаны так, как я переживал и понимал их в момент,
когда они происходили. Поэтому в своем рассказе я часто
сбиваюсь на настоящее время. Можно было бы исправить
все это при редактировании, но мне кажется,
что так мой отчет выглядит аутентичнее — словно моя
история волею судеб оказалась отснята на храмовый
целлулоид. Пусть уж все останется так, как есть.
Действующими лицами этой повести будут юный
орк Грым и его подруга Хлоя. Обстоятельства сложились
так, что я долгое время наблюдал за ними с
воздуха, и практически все их приведенные диалоги
были записаны через дистанционные микрофоны моей
«Хеннелоры». Поэтому у меня есть возможность
рассказать эту историю так, как ее видел Грым — что
делает мою задачу намного интереснее, но никак не
вредит достоверности моего повествования.
Моя попытка увидеть мир глазами юного орка может
показаться кое-кому неубедительной — особенно в той
части, где я описываю его чувства и мысли. Согласен,
стремление цивилизованного человека погрузиться в
смутные состояния оркской души выглядит подозрительно
и фальшиво. Однако я не пытаюсь нарисовать
внутренний портрет орка в его тотальности.
Древний поэт сказал, что любое повествование подобно
ткани, растянутой на лезвиях точных прозрений.
И если мои прозрения в оркскую душу точны — а они
точны, — то в этом не моя заслуга. И даже не заслуга наших
сомелье, век за веком создававших так называемую
«оркскую культуру», чтобы сделать ее духовный горизонт
абсолютно прозрачным для надлежащего надзора
и контроля.
Все проще. Дело в том, что я проделал значительную
часть работы над этими записками, когда Грым волею
судьбы оказался моим соседом и я мог задать ему любой
интересный мне вопрос. И если я пишу «Грым подумал…» или «Грым решил…», это не мои домыслы, а
чуть отредактированная расшифровка его собственного
рассказа.
Конечно, трудная задача — попытаться увидеть знакомый
нам с младенчества мир оркскими глазами и
показать, как юный дикарь, не имеющий никакого понятия
об истории и устройстве вселенной, постепенно
врастает в цивилизацию, свыкаясь с ее «чудесами» и
культурой (с удовольствием поставил бы и второе слово
в кавычки). Но еще сложнее попытаться увидеть чужими
глазами самого себя — а мне придется быть героем
этого мемуара дважды, и как рассказчику, и как действующему
лицу.
Но центральное место в этом скорбном повествовании
о любви и мести принадлежит не мне и не оркам,
а той, чье имя я все еще не могу вспоминать без слез.
Может быть, через десяток-другой страниц я наберусь
достаточно сил.
* * *
Несколько слов о себе. Меня зовут Демьян-Ландульф
Дамилола Карпов. У меня нет лишних маниту на генеалогию
имени, и я знаю только, что часть этих слов
близка к церковноанглийскому, часть к верхнерусскому,
а часть уходит корнями в забытые древние языки,
на которых в современной Сибири уже давно никто не
говорит. Мои друзья называют меня просто Дамилола.
Если говорить о моей культурной и религиознополитической
самоидентификации (это, конечно, вещь
очень условная — но должны же вы понимать, чей голос доносится до вас сквозь века), я пост-антихристианский
мирянин-экзистенциалист, либеративный консервал,
влюбленный слуга Маниту и просто свободный неангажированный
человек, привыкший обо всем на свете
думать своей собственной головой.
Если говорить о моей работе, то я — создатель реальности.
Я отнюдь не сумасшедший, вообразивший себя божеством,
равным Маниту. Я, наоборот, трезво оцениваю
ту работу, за которую мне так мало платят.
Любая реальность является суммой информационных
технологий. Это в равной степени относится к
звезде, угаданной мозгом в импульсах глазного нерва,
и к оркской революции, о которой сообщает программа
новостей. Действие вирусов, поселившихся вдоль
нервного тракта, тоже относится к информационным
технологиям. Так вот, я — это одновременно глаз, нерв
и вирус. А еще средство доставки глаза к цели и (перехожу
на нежный шепот) две скорострельных пушки по
бокам.
Официально моя работа называется «оператор live
news». Церковноанглийское «live» здесь честнее было
бы заменить на «dead» — если называть вещи своими
именами.
Что делать, всякая эпоха придумывает свои эвфемизмы.
В древности комнату счастья называли нужником,
потом уборной, потом сортиром, туалетом, ванной
и еще как-то — и каждое из этих слов постепенно пропитывалось
запахами отхожего места и требовало замены.
Вот так же и с принудительным лишением жизни —
как его ни окрести, суть происходящего требует частой
ротации бирок и ярлыков.
Я благодарно пользуюсь словами «оператор» и «видеохудожник», но в глубине души, конечно, хорошо
понимаю, чем именно я занят. Все мы в глубине души
хорошо это понимаем — ибо именно там, в предвечной
тьме, где зарождается свет нашего разума, живет Маниту,
а он видит суть сквозь лохмотья любых слов.
У моей профессии есть два неотделимых друг от друга
аспекта.
Я видеохудожник. Моя персональная виртостудия
называется «DK v-arts & all» — все серьезные профессионалы
знают ее маленький неброский логотип, видный
в правом нижнему углу кадра при сильном увеличении.
И еще я боевой летчик CINEWS INC — корпорации,
которая снимает новости и снафы.
Это совершенно независимая от государства
структура, что трудновато бывает понять оркам. Орки
подозревают, что мы им врем. Им кажется, что любое
общество может быть устроено только по той схеме,
как у них, только циничнее и подлее. Ну на то они и
орки.
Государство у нас — это просто контора, которая
конопатит щели за счет налогоплательщика. В презиратора
не плюет только ленивый, и с каждым годом
все труднее находить желающих избраться на эту должность
— сегодня государственных функционеров приходится
даже прятать.
А за горло всех держит Резерв Маниту, ребята из которого
не очень любят, чтобы про них долго говорили, и
придумали даже специальный закон о hate speech1. Под
него попадает, если разобраться, практически любое их
упоминание. Поэтому CINEWS кладет на государство,
но вряд ли станет бодаться с Резервом. Или с Домом
Маниту, который по закону не подконтролен никому,
кроме истины (так что не стоит особо интенсивно заниматься
ее поиском — могут не так понять).
Художник я неплохой, но таких немало.
А вот летчик я самый лучший, и в компании это
знают все. Именно мне всегда доверяли самые сложные
и деликатные задания. И я ни разу не подводил ни
CINEWS INC, ни Дом Маниту.
В жизни я по-настоящему люблю только две вещи —
мою камеру и мою суру.
В этот раз я расскажу о камере.
Моя камера — «Hennelore-25» с полным оптическим
камуфляжем, находящаяся в моей личной собственности,
что позволяет мне заключать контракты на гораздо
более выгодных условиях, чем это могут делать безлошадные
господа.
Я где-то читал, что «Хеннелора» — это позывной
античного аса Йошки Руделя из партии «Зеленых СС»,
удостоенного Красного Креста с Коронками и Конопляными
Листьями за подвиги на африканском фронте.
Но я могу и ошибаться, потому что исторический
аспект меня интересует крайне мало. Лично мне такое
название напоминает имя ласковой и умной морской
свинки.
По внешнему виду это рыбообразный снаряд с оптикой
на носу и несколькими рулями-стабилизаторами,
торчащими в разных плоскостях. Некоторые находят в
«Хеннелоре» сходство с обтекаемыми гоночными мотоциклами
древних эпох. Из-за камуфляжных маниту, покрывающих
ее поверхность, она имеет матово-черный
цвет. Если поставить ее вертикально, я буду ниже на две
головы.
«Хеннелора» способна перемещаться в воздухе с
невероятным проворством. Она может подолгу кружить
вокруг цели, выбирая лучший угол атаки или съемки.
Она делает это тихо, так что услышать ее можно только
когда она подлетит вплотную. А увидеть ее при включенном
камуфляже практически нельзя. Ее микрофоны
могут различить и записать разговор за закрытой дверью, гипероптика позволяет видеть сквозь стену силуэты
людей. Она идеальна для слежки, атаки на бреющем
полете — ну и, конечно, для съемок.
«Хеннелора» — не самое новое, что есть на рынке.
Многие считают что «Sky Pravda» превосходит ее по
большинству параметров, особенно в области инфракрасной
порносъемки. У «Правды» гораздо лучше оптический
камуфляж — система «split time» на кремниевых
волноводах. Ее вообще невозможно засечь. А моя «Хеннелора» использует традиционные метаматериалы, и
мне не стоит подлетать к живой мишени слишком уж
близко. И то — лучше со стороны солнца.
Но моя «Хеннелора», во-первых, гораздо лучше
вооружена. Во-вторых, тюнинг делает бессмысленным
любое сравнение с серийными моделями. В-третьих, я
сжился с ней, как с собственным телом, и пересесть на
новую камеру мне было бы очень трудно.
Когда я говорю «боевой летчик», это не значит, что
я летаю в небе сам, всем своим толстым брюхом, как
наши волосатые предки в своих керосиновых гондолах.
Как и все продвинутые профессионалы нашего
века, я работаю на дому.
Я сижу рядом с контрольным маниту, согнув ноги
в коленях и упершись грудью и животом в россыпь
мягких подушек — в похожей позе ездят на скоростных
мотоциклах. Подо мной самое настоящее оркское княжеское
седло древних времен, купленное за огромные
деньги у антиквара. Оно черное от времени, с еле различимой
драгоценной вышивкой, и довольно жесткое,
что при сидячей и полулежачей работе хорошо для профилактики
простатита и геморроя.
На моем носу легкие очки со стереоскопическими
маниту, в которых я вижу окружающее «Хеннелору»
пространство так же, как если бы я вертел приделанной
к камере головой. Над контрольным маниту висит гравюра старинного художника «Четыре всадника Апокалипсиса». Одного по моей просьбе убрал знакомый
сомелье, чтобы мое рабочее место стало как бы продолжением
метафоры. Это иногда вдохновляет.
Пилотаж — сложное искусство, похожее на верховую
езду; в моих руках изогнутые рукоятки, а под ступнями
— оркские серебряные стремена, купленные вместе
с седлом и подключенные к контрольному маниту.
Сложными, почти танцевальными движениями ног я
управляю «Хеннелорой». Кнопки на рукоятках отвечают
за боевые и съемочные системы камеры; их очень
много, но мои пальцы помнят их наизусть. Когда моя
камера летит, мне кажется, что лечу я сам, корректируя
свое положение в пространстве легчайшими движениями
ног и рук. Но я не чувствую перегрузок. Когда они
становятся опасными для систем камеры, реальность в
моих очках краснеет, вот и все.
Интересно, что менее опытный летчик рискует разбить
камеру гораздо меньше, поскольку работает встроенная
«защита от дурака». Но мне приходится отключать
эту систему ради некоторых особо изощренных
маневров — и еще ради способности снижаться почти
до самой земли. Если разобьется камера, сам я останусь
жив. Но это будет стоить мне столько маниту, что лучше
бы мне, право, умереть. Поэтому я действительно лечу
сам, и эта иллюзия является для меня самой настоящей
реальностью.
Я уже говорил, что выполняю самые сложные и деликатные
задания корпорации. Например, начать очередную
войну с орками.
О них, конечно, надо рассказать в самом начале, а то
будет непонятно, откуда взялось это слово.
Почему их так называют? Дело не в том, что мы относимся
к ним с презрением и считаем их расово неполноценными
— таких предрассудков в нашем обществе нет. Они такие же люди, как мы. Во всяком случае, физически.
Совпадение с древним словом «орк» здесь чисто
случайное — хотя, замечу вполголоса, случайностей
не бывает.
Дело здесь в их официальном языке, который называется
«верхне-среднесибирским».
Есть такая наука — «лингвистическая археология»,
я ею немного интересовался, когда изучал оркские пословицы
и поговорки. В результате до сих пор помню
уйму всяких любопытных фактов.
До распада Америки и Китая никакого верхнесреднесибирского
языка вообще не существовало в
природе. Его изобрели в разведке наркогосударства
Ацтлан — когда стало ясно, что китайские эко-царства,
сражающиеся друг с другом за Великой Стеной, не станут
вмешиваться в происходящее, если ацтланские нагвали
решат закусить Сибирской Республикой. Ацтлан
пошел традиционным путем — решил развалить Сибирь
на несколько бантустанов, заставив каждый говорить
на собственном наречии.
Это были времена всеобщего упадка и деградации,
поэтому верхне-среднесибирский придумывали обкуренные
халтурщики-мигранты с берегов Черного моря,
зарплату которым, как было принято в Ацтлане, выдавали
веществами. Они исповедовали культ Второго Машиаха
и в память о нем сочинили верхне-среднесибирский
на базе украинского с идишизмами, — но зачем-то (возможно,
под действием веществ) пристегнули к нему
очень сложную грамматику, блуждающий твердый знак
и семь прошедших времен. А когда придумывали фонетическую
систему, добавили «уканье» — видимо, ничего
другого в голову не пришло.
Вот так они и укают уже лет триста, если не все пятьсот.
Уже давно нет ни Ацтлана, ни Сибирской республики
— а язык остался. Говорят в быту по-верхнерусски, а государственный язык всего делопроизводства —
верхне-среднесибирский. За этим строго следит их собственный
Департамент Культурной Экспансии, да и мы
посматриваем. Но следить на самом деле не надо, потому
что вся оркская бюрократия с этого языка кормится
и горло за него перегрызет.
Оркский бюрократ сперва десять лет этот язык учит,
зато потом он владыка мира. Любую бумагу надо сначала
перевести на верхне-среднесибирский, затем заприходовать,
получить верхне-среднесибирскую резолюцию
от руководства — и только тогда перевести обратно
просителям. И если в бумаге хоть одна ошибка, ее могут
объявить недействительной. Все оркские столоначальства
и переводные столы — а их там больше, чем свинарников,
— с этого живут и жиреют.
В разговорную речь верхне-среднесибирский почти
не проник. Единственное исключение — название
их страны. Они называют ее Уркаинским Уркаганатом,
или Уркаиной, а себя — урками (кажется, это им
в спешке переделали из «укров», хоть есть и другие филологические
гипотезы). В бытовой речи слово «урк»
непопулярно — оно относится к высокому пафосному
стилю и считается старомодно-казенным. Но именно
от него и произошло церковноанглийское «Orkland» и
«orks».
Урки, особенно городские, которые каждой клеткой
впитывают нашу культуру и во всем ориентируются на
нас, уже много веков называют себя на церковноанглийский
манер орками, как бы преувеличенно «окая».
Для них это способ выразить протест против авторитарной
деспотии и подчеркнуть свой цивилизационный
выбор. Нашу киноиндустрию такое вполне устраивает.
Поэтому слово «орк» почти полностью вытеснило термин
«урк», и даже наши новостные каналы начинают
называть их «урками» лишь тогда, когда сгущаются тучи
истории, и мне дают команду на взлет.
Когда я говорю — «команду на взлет», это не значит,
конечно, что мне доверяют первую боевую атаку.
С этим справится любой новичок. Мне доверяют съемку
на храмовый целлулоид для предвоенных новостей.
Любой человек в информационном бизнесе понимает,
какая это важная работа.
На самом деле над каждой войной работает огромное
число людей, но их усилия не видны постороннему
взгляду. Войны обычно начинаются, когда оркские
власти слишком жестоко (а иначе они не умеют) давят
очередной революционный протест. А очередной революционный
протест случается, так уж выходит, когда
пора снимать новую порцию снафов. Примерно раз в
год. Иногда чуть реже. Многие не понимают, каким образом
оркские бунты начинаются точно в нужное время.
Я и сам, конечно, за этим не слежу — но механика
мне ясна.
В оркских деревнях до сих пор приходят в религиозный
ужас при виде СВЧ-печек. Им непонятно, как это
так — огня нет, гамбургер никто не трогает, а он становится
все горячее и горячее. Делается это просто — надо
создать электромагнитное поле, в котором частицы гамбургера
придут в бурное движение. Оркские революции
готовят точно так же, как гамбургеры, за исключением
того, что частицы говна в оркских черепах приводятся в
движение не электромагнитным полем, а информационным.
Даже не надо посылать к ним эмиссаров. Довольно,
чтобы какая-нибудь глобальная метафора — а у
нас все метафоры глобальные — намекнула гордой
оркской деревне, что, если в ней проснется свободолюбие,
люди придут на помощь. Тогда свободолюбие
гарантировано проснется в этой деревне просто в видах наживы — потому что центральные власти будут
с каждым днем все больше платить деревенскому
старосте, чтобы оно как можно дольше не пробуждалось
в полном объеме, но неукротимое восхождение
к свободе и счастью будет уже не остановить. Причем
мы не потратим на это ни единого маниту — хотя могли
бы напечатать для них сколько угодно. Мы просто
будем с интересом следить за процессом. А когда он
разовьется до нужного градуса, начнем бомбить. Не
деревню, понятно, а кого нам надо для съемки.
Я не вижу в этом особо предосудительного. Наши
информационные каналы не врут. Орками действительно
правит редкая сволочь, которая заслуживает
бомбежки в любой момент, и если их режим не является
злом в чистом виде, то исключительно по той причине,
что сильно разбавлен дегенеративным маразмом.
Да и оправдываться нам не перед кем. Суди нас или
нет — но мы, к сожалению, то лучшее, что есть в этом
мире. И так считаем не только мы, но и сами орки.
Информационной поддержкой революционного
движения в Оркланде занимаются сомелье из другого
департамента, а я отвечаю исключительно за видеоряд.
Что значительно важнее и с художественной, и с религиозной
точки зрения. Особенно в самом начале войны,
когда уже прошла первая волна заголовков («мир
предупредил орков»), а нормального фидбэка еще нет.
Последние несколько войн в паре со мной работал
Бернар-Анри Монтень Монтескье — вы, вероятно, знаете
это имя. Мало того, Бернар-Анри был моим соседом
(слухи о его роскошном образе жизни сильно преувеличены).
Мы не стали друзьями, потому что я не одобрял
некоторых его увлечений, но знакомы были близко,
и в профессиональном смысле составляли хорошую
крепкую команду. Я был ведомым-оператором, а он —
обозревателем-наводчиком.
Сам он предпочитал называть себя философом. Так
же его представляли в новостях. Но в платежной ведомости,
которую составляют на церковноанглийском,
его должность называется однозначно: «crack discourse-
monger fi rst grade«2. То есть на самом деле он такой же
точно военный. Но противоречия тут нет — мы ведь не
дети и отлично понимаем, что сила современной философии
не в силлогизмах, а в авиационной поддержке.
Именно поэтому орки и пугают своих детей словом
«дискурсмонгер».
Как и положено настоящему философу, БернарАнри
написал мутную книгу на старофранцузском. Она
называется «Les Feuilles Mortes», что значит «Мертвые
Листья» (сам он переводил чуть иначе — «Мертвые Листы»). Ударные дискурсмонгеры гордятся знанием этого
языка и возводят свою родословную к старофранцузским
мыслителям, придумывая себе похожие имена.
Это, конечно, чистейшая травестия и карнавал. Они,
однако, относятся к делу серьезно — их спецподразделение
называется «Le Coq d’Esprit«3, и на людях они
постоянно перебрасываются непонятными картавыми
фразами. Но мне хорошо известно, что Бернар-Анри
знал на старофранцузском всего несколько предложений
и даже песни слушал с переводом. Поэтому книгу
за него, если разобраться, написал креативный доводчик
с французским модулем.
Мы знаем, как сочиняются эти трактаты на старофранцузском
— берется какая-нибудь смутная древняя
цитата, загоняется в маниту, пальцы пару секунд щелкают
по меню, и готово — кубики слов можно громоздить
до потолка. Но другие наводчики ударной авиации
не утруждают себя даже этим. Так что Бернар-Анри
был добросовестным профессионалом, и если бы не его мрачное хобби, экранный словарь уделил бы ему гораздо
больше места.
Многие до сих пор считают его эдаким бескорыстным
рыцарем духа и истины. Он им не был. Но я его не
осуждаю.
Жизнь слишком коротка, и сладких капель меда на
нашем пути не так уж много. Нормальный публичный
интеллектуал предпочитает комфортно лгать вдоль силовых
линий дискурса, которые начинаются и заканчиваются
где-то в верхней полусфере Биг Биза. Иногда
он позволяет себе петушиный крик свободного духа в
безопасной зоне — обычно на старофранцузском, чтобы
никого случайно не задеть. Ну и, понятно, разоблачает
репрессивный оркский режим. И все.
Любое другое поведение экономически плохо мотивировано.
На церковноанглийском это называется
«smart free speech» — искусство, которым в совершенстве
владеют все участники мирового дух-парада.
Это не так просто, как может показаться. Тут недостаточно
известной внутренней пластичности, а необходимо
еще и знание того, как эти силовые линии изгибаются
на самом деле, чего никогда не понимают орки.
А линии к тому же имеют свойство плавно менять положение,
так что работа почти такая же нервная и рискованная,
как у биржевого маклера.
Вот, кстати — креативный доводчик предполагает,
что слово «smart», то есть «хитроумный», образовано от
древнего знака доллара (так когда-то назывались маниту)
и сокращенного «рынок» — «mart». Очень может
быть. Но владение smart free speech само по себе — это
довольно низкооплачиваемый навык, поскольку предложение
значительно превышает спрос.
Только не подумайте, что я смотрю на этих ребят
сверху вниз. Я по сути ничем не лучше. Как коммерческий
визуальный художник я, безусловно, трусливый конформист — и меня вполне устраивает такое
положение дел. Зато летчик я смелый и опытный, это
факт. И еще — изобретательный и пылкий любовник,
хоть та, на кого устремлена моя любовь, вряд ли сможет
по-настоящему ее оценить. Но об этом потом.
Итак, все началось с того, что нам с Бернаром-Анри
дали поручение заснять для новостных роликов формальный
видеоповод для войны номер 221 — так называемый
«casus belly» (экранные словари уверяют, что это
церковноанглийское выражение происходит от древней
идиомы «надорвать [врагу] животик»). Заснять на самом
деле означает «организовать». Мы с Бернаром-Анри понимаем
это без слов, поскольку начали вместе уже две
войны — номер 220 и номер 218. Девятнадцатую начали
наши творческие конкуренты.
Организовать casus belly — это задание тайное, деликатное
и очень непростое. Его доверяют только самым
лучшим специалистам. То есть нам.
Самым убедительным и неоспоримым видеоповодом
для войны, по поводу которого согласны абсолютно
все критики, комментаторы и пандиты, в сегодняшней
визуальной культуре, как и века назад, считается
так называемая «damsel in distress». Опять извиняюсь за
церковноанглийский, но по-другому не скажешь. К тому
же мне нравится звучание этих грозных, словно пропахших
порохом, слов.
Damsel in distress — не просто «дева в печали», как
переводится это выражение. Скажем, если эта оркская
дева спит где-нибудь на сеновале и видит кошмар, от
которого вспотела и трясется, бомбить из-за такого не
начнешь. Если оркская дева вывалялась в говне, получила
оплеуху от бабки и ревет, сидя в луже, толку от
этого тоже мало, хотя ее печаль может быть совершенно
искренней. Нет, damsel in distress предполагает, с одной стороны, угнетенную чистоту, а с другой — нависшее
над ней тяжеловооруженное зло.
Сгенерировать подобную картинку с любым разрешением
— пять минут работы для наших сомелье. Но
такими вещами CINEWS INC занимается только в развлекательном
блоке. То, что попадает в новостные ролики,
должно действительно произойти на физическом
плане и стать частью Света Вселенной. «Thou shalt keep
thy newsreel wholesome«4, сказал Маниту. Может, он
этого и не говорил, но так нам передали.
Именно по религиозным причинам новостные ролики
снимаются на храмовую целлулоидную пленку.
Фотоны врезаются в светочувствительную эмульсию,
приготовленную служителями Дома Маниту по древним
рецептам, в точности как много сотен лет назад
(благоговейно воспроизводится даже ее ширина).
Пленка должна быть горючей, потому что в Прописях
есть фраза «пылает, как кровь Маниту». А почему
требуется сохранить живой отпечаток света, объясняют
при посвящении в Мистерии, но я уже слишком вырос
из детских штанишек, чтобы это помнить — да и не
хочу лезть в богословские вопросы. Существенно здесь
одно — пленочная камера занимает ужасно много места
в моей «Хеннелоре». Когда б не эта камера, да не ракеты
с пушками, остальную технологию можно было бы
упрятать в контейнер размерами с фаллоимитатор. Но
что делать, если так хочет Маниту.
Когда речь идет о новостях, мы не можем подделывать
изображение событий. Но Маниту, насколько понимают
теологи, не станет возражать, если мы чуть-чуть
поможем этим событиям произойти. Конечно, самую
малость — и эту грань чувствуют только настоящие профессионалы.
Такие, как я и Бернар-Анри. Мы не фальсифицируем
реальность. Но мы можем сделать ей, так
сказать, кесарево сечение, обнажив то, чем она беременна
— в удобном месте и в нужное время.
Мы ждали подходящего момента для операции
несколько дней. Потом осведомитель в свите уркагана
сообщил, что Рван Дюрекс, уже запятнавший себя кровью
восставших орков (звено телекамер успело предотвратить
масштабное кровопролитие ракетным ударом,
но на совести кагана остались коллатеральные жертвы),
возвращается в Славу (так называется оркская столица)
по северной дороге.
Мы с Бернаром-Анри немедленно вылетели на перехват.
Когда я говорю «мы», это означает, что туда полетела
моя «Хеннелора», заряженная пленкой и снарядами.
С ней было мое сознание, а тело оставалось дома — только
крутило головой в боевых очках и давило на рычаги.
А вот Бернара-Анри доставили в Оркланд на самом деле,
такая уж у него работа. Риск, конечно. Но когда моя
«Хеннелора» рядом, совсем небольшой.
Платформа высадила Бернара-Анри на краю дороги
в паре километров от Славы — и поднялась в тучи, чтобы
не тратить батарею на камуфляж.
Миссия началась.
Бернар-Анри велел мне осмотреть местность и найти
подходящую фактуру, пока он будет молиться. Молиться,
да уж… На самом деле старый сатир просто накачивался
веществами, как всегда перед боевой съемкой. Но
старшие сомелье закрывают на это глаза, потому что так
Бернар-Анри лучше выглядит перед камерой.
А это, понятное дело, в работе экранного дискурсмонгера
важней всего. Открытые жесты и поза, спокойный
и медленный голос, уверенные манеры и речь.
Никаких почесываний головы, никаких рук в карманах.
Мы живем в визуальном обществе, и смысловое
содержание экранной болтовни обеспечивает лишь пятнадцатую часть ее общего эффекта. Остальное — картинка.
Порошки Бернара-Анри начинают действовать в
полную силу часа через полтора-два — как раз тогда
должна была появиться колонна кагана. Время имелось,
но терять его не следовало — надо было срочно
искать фактуру.
Я набрал высоту.
Местность была довольно депрессивной. Вернее, с
одной стороны от дороги она была даже живописной,
насколько это слово применимо к Оркланду — там были
конопляные и банановые плантации, речка и пара
вонючих оркских деревень. А с другой стороны начинались
самые мрачные джунгли Оркланда. Мрачны
они не сами по себе, а из-за того, что за ними. Через
несколько сотен метров деревья редеют, и начинается
огромное болото, которое по совместительству служит
кладбищем.
Орки называют его Болотом Памяти — там вся Слава
хоронит своих умерших. С высоты оно похоже на мрачное
серо-зеленое озеро, куда впадают жилки тонких речушек.
Оно почти все усеяно желтыми, серыми и темными
крапинками, с высоты похожими на веснушки.
Это плавучие оркские гробы, так называемые «спутники» — круглые лодки, которые накрывают соломенной
крышкой с четырьмя торчащими вверх палками. Орки
верят, что в этих посудинах их души улетают в космос к
Маниту. Не знаю, не знаю.
Лес вдоль болота орки высадили специально (да,
бывает и такое — орк, сажающий деревце). Они сделали
это, чтобы отогнать вонючую сине-зеленую жижу
от дороги и своих огородов. Когда каган ездит мимо,
его всегда сопровождает охрана, поскольку тут легко
устроить засаду. А вообще здесь малолюдно — орки
боятся своих мертвецов. Кто-то вбил им в голову, что
каждое их поколение обязательно предает предыдущее,
и страх предков стал у них подобием коллективного
невроза. Которому помогают и живущие в болоте
жирные крокодилы — хотя из воды они не вылазят. Им
хватает спутников.
В древние времена здесь селились так называемые
«мудрецы», стремящиеся подчеркнуть свой потусторонний
статус ежедневной близостью к смерти. А городские
орки ходили к ним погадать по книге «Дао
Песдын» — они верили, что так можно задать вопрос
самому Маниту (я не шучу, у орков действительно есть
такая книга, хоть написали ее, скорей всего, наши сомелье).
Но при оркском императоре Просре Ликвиде
вольных мудрецов упразднили, а все гадатели были
подчинены генеральному штабу. С тех пор в кладбищенский
лес ходит только молодежь — парочки, которым
негде уединиться. Мертвецов и крокодилов они,
конечно, боятся, но любовь сильнее смерти. Был бы я
философ, как Бернар-Анри, обязательно воспел бы постарофранцузски
тайный праздник жизни, цветущий в
этих мертвых чащобах.
Можно было поискать подходящую натуру возле деревень,
где бродят пасущие скот оркские девки нежного
возраста. А можно было полететь вдоль дороги над
кромкой джунглей. Я выбрал второе, и буквально через
пять минут полета наткнулся на то, что было нужно.
По обочине шла оркская парочка. Это были мальчишка
и девчонка, одногодки — лет шестнадцати или
чуть больше. Я так уверенно определяю цифру, поскольку
у орков это consent age, и будь кто-то из них
младше, вряд ли они решились бы показаться вместе.
Оркские власти с тупым рвением подражают нашему
механизму сексуальных репрессий — они и наш возраст
согласия позаимствовали бы, позволь такое наши советники.
Думают, видимо, что именно здесь проходит дорога к технотронному обществу. Впрочем, для них
другой в любом случае не осталось.
У парочки были с собой удочки. Все сразу стало ясно
— «рыбалка» заменяет молодым оркам задний ряд
кинозала.
Я сделал максимальное увеличение и некоторое время
разглядывал их лица. Парень был обычным оркским
мальчишкой — симпатичным и белобрысым. Они все
такие, пока не начинают пить волю и колоть дуриан.
А вот damsel была идеальной.
В кадре она смотрелась просто здорово. Во-первых,
она не выглядела ребенком, и это было хорошо, потому
что малолеток показывали перед двумя последними
войнами, и зритель от них устал. Во-вторых, она была
очень хороша собой — я имею в виду, конечно, для
биологической женщины. Я был уверен, что БернаруАнри
немедленно захочется защитить эдакую свинку от
какой-нибудь напасти.
Купить книгу на Озоне