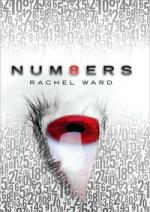Отрывок из романа
О книге Луиджи Пиранделло «Записки кинооператора Серафино Губбьо»
I
Я наблюдаю за людьми в их самых обычных
проявлениях, за обычными занятиями в надежде
отыскать хоть в ком-нибудь то, чего нет у
меня — что бы я ни делал, чем бы ни занимался,
— а именно уверенности в том, что они понимают,
чтo делают. Поначалу мне кажется, да,
у многих такая уверенность есть, судя по тому,
как они обмениваются взглядами, как здороваются,
торопясь по делам или мчась в погоне
за прихотями. Но потом, стоит присмотреться
внимательнее и заглянуть им поглубже в глаза
пристальным и молчаливым взором, как их
лица тускнеют, словно на них накатила тень.
Другие, наоборот, приходят в такое замешательство
и беспокойство, что, кажется, не прекрати
я сверлить их взглядом, они бросятся на
меня с потоком проклятий или, чего доброго,
кинутся и растерзают на куски.
Да вроде нет. Все хорошо, все спокойно!
Ну что ж, вперед… Мне довольно этого: знать
наверное, господа, что вам и самим далеко не
ясно и отнюдь не бесспорно даже то малое, что
постепенно возникает и определяется столь
привычными для вас условиями жизни. Во всем
есть свое «за», то, что лежит за пределами видимого.
Вы либо не хотите, либо не умеете его
разглядеть. Однако стоит этому запределью на
миг приоткрыться перед таким праздношатающимся,
как я, который останавливается поглядеть
на вас, как вы сразу теряетесь, впадаете в
беспокойство или же начинаете сердиться.
Разумеется, мне знакомо внешнее, я бы сказал
— механическое устройство жизни, которое,
грохоча, заставляет нас крутиться, доводя до состояния
дурноты. Сегодня то и вот это, сегодня
надо сделать и то, и се; нестись, поглядывая на
часы, сюда, чтобы не опоздать и вовремя поспеть
туда. Спасибо, приятель, но извини, опаздываю!
— Да ты что, неужели? Везет тебе! А я
вот должен бежать… — Завтрак в одиннадцать…
Газета, портфель, контора, школа… — Как жаль,
ведь чyдная стоит погода! Но дела, дела… — Кто
едет? Ах, катафалк! «Пусть земля ему будет пухом…» и бегом дальше. — Лавка, фабрика, суд…
Ни у кого нет ни времени, ни возможности
остановиться хотя бы на миг и задуматься: а действительно
ли то, что делают другие и что делаешь
ты сам, тебе необходимо и вселяет уверенность
— твердую, окончательную, без дураков,
которая только и может дать отдых и покой?
Покой и отдых, которые нам предоставляются
после всего этого грохота и кутерьмы, до того
утомительны, до того одурманены тупой беготней,
что и отдыхая невозможно расслабиться и
подумать. Одной рукой мы хватаемся за голову,
другую вскидываем с жестом пьяного мужика:
— Повеселимся! Развеемся!
М-да. Куда тяжелей и сложней работы все те
развлечения, которые нам подсовывают, оттого
мы и отдыхая устаем еще больше.
Наблюдаю за женщинами на улице — как
одеты, какая походка, что за шляпки; за мужчинами
— как выглядят либо хотят выглядеть;
прислушиваюсь к их разговорам, узнаю о намерениях,
устремлениях, и порой кажется, что
все это дурной сон, до того трудно поверить в
реальность того, что я вижу и слышу, ибо, не
будучи в силах поверить, что все это говорится
и делается в здравом рассудке, а не просто
из шутовства, я спрашиваю себя, а не довел ли
вертящийся, грохочущий механизм жизни, от
которого голова идет кругом и к горлу подступает
тошнота, не довел ли он человечество до
той степени безумия, что скоро оно сорвется и
сметет все к чертовой бабушке? Хотя в конечном
счете от этого, может, была бы только польза. Но
какая польза и в чем бы она состояла? Да в том
хотя бы, чтобы поставить жирную точку и начать
опять все сначала.
Мы пока еще не дожили до того, что, по слухам,
творится в Америке, — там зрелище вообще
бесподобное; в тамошнем круговороте жизни
люди падают замертво прямо за работой, как подкошенные,
как молнией пораженные. Но, с Божьей
помощью, и мы скоро доживем до того же.
Мне известно, что здесь многое готовится. Дело
не стоит, дело движется! И я скромным образом
являюсь одним из служащих, занятых на тех работах,
которые готовят нам большое увеселение.
Я оператор. Но быть оператором в том мире,
в котором и за счет которого я живу, вовсе не
значит оперировать, то есть действовать.
Я не действую, ничем не оперирую.
Я устанавливаю штатив на трех выдвижных
ножках, на нем — камеру. Помощники, один
или двое, по моим указаниям отмечают на ковре
либо на дощатой платформе мерным шестом
и голубоватым мелком границы поля, в пределах
которого должны двигаться актеры, чтобы
вся сцена была полностью в фокусе.
Это называется очертить поле действия.
Очерчиваю его не я, а другие: я только предоставляю
в распоряжение кинокамеры свой
взор, чтобы она указала ту крайнюю точку, предел,
дальше которого она не в состоянии ничего
уловить.
Когда сцена подготовлена, режиссер размещает
на ней актеров, подсказывая им, что и как
надо делать.
Я справляюсь у режиссера:
— Сколько метров?
Режиссер, в зависимости от продолжительности
сцены, говорит мне, какое примерно количество
пленки потребуется, и далее дает команду
актерам:
— Внимание, мотор, снимаем!
Я запускаю в ход машинку, начинаю вертеть
ручку.
Я бы, конечно, мог вообразить, что это я, вращая
ручку, заставляю актеров двигаться — наподобие
шарманщика, который, тоже вращая ручку,
заставляет музыку звучать. Но я не поддаюсь ни
той ни другой иллюзии, я всего лишь кручу себе
ручку до тех пор, пока не закончится сцена. Потом
смотрю в аппарат и докладываю режиссеру:
— Восемнадцать метров.
Или же:
— Тридцать пять метров.
И только.
Однажды подходит ко мне какой-то господин
полюбопытствовать:
— Простите, а не придуман еще способ, чтобы
ручка вертелась сама?
Как сейчас вижу его лицо: худое, бледное,
белокурые редкие волосы, пронзительные голубые
глаза; бородка клинышком, желтоватая, за
нею он прятал улыбку, которой полагалось быть
кроткой и милой, а она была лукавая. Ибо своим
вопросом он собирался сказать:
— А нельзя ли как-нибудь обойтись без вас?
Кто вы, собственно, такой? Рука, которая вертит
ручку. А нельзя ли обойтись без этой руки? Нельзя
ли упразднить вас, заменить каким-нибудь механизмом?
Я ответил ему с улыбкой:
— Возможно, со временем. Говоря по правде,
первейшее свойство, которое требуется от человека
моей профессии, — это невозмутимость и бесстрастность
по отношению к действию, что разворачивается
перед камерой. Какой-нибудь механизм
в этом смысле был бы, бесспорно, более
уместен, и его следовало бы предпочесть человеку.
Но на данном этапе развития самая большая
трудность заключается в том, чтобы изобрести
такой механизм, который бы мог самостоятельно регулировать движение ручки в зависимости
от разворачивающегося перед камерой действия.
Ибо, да будет вам, сударь, известно, я не всегда
одинаково кручу ручку — иногда быстрей, иногда
медленней, в зависимости от того, что происходит.
Впрочем, не сомневаюсь, что пройдет
сколько-нибудь времени и — вы правы — я буду
упразднен. Ручка камеры — это касается и всех
других машин — будет вращаться самостоятельно.
Но вот что станется с человеком, когда все
машины будут работать самостоятельно? Об
этом, сударь, стоит подумать в первую очередь.
II
Я испытываю жгучую потребность высказаться
и удовлетворяю ее тем, что пишу. Это помогает
разрядиться, сбросить с себя груз профессиональной
бесстрастности, а заодно отыграться за
многих, кто так же, как я, обречен быть всего
лишь рукой, которая вертит ручку.
Когда-нибудь это должно было произойти и
вот произошло!
Человек, который прежде был поэтом, боготворил,
обожал свои чувства, поумнев, забросил
их как бесполезный и даже вредный придаток
и, сделавшись разумным и изобретательным,
стал отливать своих новых богов из железа
и стали, став их прислужником и рабом.
Даешь Машину, механизирующую жизнь!
Господа, у вас еще сохранились остатки ума,
души и сердца? Отдайте их, поскорее отдайте на
съедение прожорливым машинам, разве вы не
видите, что они ждут не дождутся? Вы увидите,
какие продукты изысканной глупости они вам
выдадут на-гора!
Они ненасытны, и, торопясь накормить их,
какой еще корм вы можете выдавливать из себя
ежедневно, ежечасно, ежеминутно?
Тут поневоле наступит триумф поголовной
глупости, а ведь сколько сил, сколько ума было
положено, чтобы создать этих чудовищ, которые
были задуманы как инструменты, помощники,
а вместо этого неизбежно превратились в
наших господ и повелителей.
Машина сделана, чтобы действовать, двигаться,
а для этого ей необходимо поглощать нашу
душу, кромсать, разрывать на куски нашу жизнь.
В каком, по-вашему, виде она может вернуть
нам жизнь и душу, если она воспроизводит их
беспрестанно, тиражирует стократно. Вот они,
полюбуйтесь, размножены, клочки и кусочки,
все на один пошиб, на одно лицо, глупенькие
и безупречно точные, все как на подбор: впору
складывать в стопку, глядишь, вырастет пирамида,
высокая, до самых звезд. Какое до звезд,
господа! Не верьте вы этим россказням. Едва ль
доберется до высоты телеграфного столба. Легким
дуновением ветерка их сдует и разнесет, как
ворох опавших листьев, по улицам, и вот уже новая
неприятность, да не изнутри, а снаружи, да
такая, что Бог ты мой! Вы посмотрите, вы только
посмотрите, сколько коробок, коробочек, ящиков,
ящичков повсюду валяется, некуда ступить,
некуда ногу поставить, не знаешь, как двинуться
дальше. Вот они, продукты нашей души, коробочки
нашей жизни!
Что прикажете делать со всем этим добром?
Я на месте. Обслуживаю свою машинку, в смысле
— верчу ее, чтобы она могла поедать. Душа?
Душа мне для этого не нужна. Мне нужна только
рука, вернее, не мне, а машинке. А душу, жизнь
на съедение машинке, ручку которой я верчу,
должны предоставить вы, уважаемые господа. Я
же, с вашего позволения, развлекусь, глядя на
продукт, который она выдаст. Отличный продукт,
обхохочешься, гарантирую.
Мои глаза и уши в силу долгой привычки
уже видят и слышат все, что несет в себе это
дрожащее, вибрирующее механическое воспроизводство.
Не спорю, с виду все легко и непринужденно.
Жми, полетели! Скорость вызывает такое чуткое,
трепетное, остро щемящее чувство и уносит с
собой все мысли. Давай, мчись вперед! Скорее,
чтобы не оставалось времени сосредоточиться
на гнетущей тяжести грусти, на растерянности
и безнадежно поникшем духе из-за внезапно нахлынувшего
чувства стыда, остающегося где-то
на дне под спудом. Снаружи — фейерверк искрящихся
брызг, нескончаемое сверкание: все
искрится, мерцает и исчезает.
Что такое? Да так, ничего, уже все прошло.
Похоже, что-то было неладно, ну да ничего, проехали.
Но есть непреходящая пытка. Слышите? Гудит,
как шмель, не переставая, то глухо, то сердито,
то вдруг взрывается и жужжит, жужжит
беспрестанно, откуда-то оттуда, не переставая.
Что это? Гул телеграфных столбов? Визг дуги
электрического трамвая, скользящей по проводам?
Лязганье несметной армады станков, по
цепи передающееся от дальних к ближним? Рев
автомобильного двигателя? Треск киноаппарата?
Биения сердца не замечаешь, пульса не слышишь
— беда, коль услышишь! А вот этот гул,
это жужжание — слышишь, и оно отчетливо
говорит тебе, что вся эта безумная гонка, это
мелькание изображений, возникающих и исчезающих
с головокружительной быстротой, — все
это неестественно, ненатурально, что за этим
скрывается механизм, который, похоже, мчится
за нами вдогонку и скрежещет.
Заглохнет ли он когда-нибудь?
Ах, лучше не вслушиваться, иначе ярость будет
расти, и долго этой пытки не вынесешь. Рехнешься.
В ничто, все глубже и глубже в ничто следует
вслушиваться в потоке бесконечного, неразборчивого
гула, который поглощает тебя и от которого
все мешается в голове. Ловить миг за мигом
летящую смену лиц и историй — и вперед, пока
этот гул не стихнет для каждого из нас навсегда.
III
Из головы не выходит человек, которого я встретил
год назад, в вечер своего прибытия в Рим.
Был ноябрь, сырой и промозглый вечер. Я
бродил в поисках недорогого пристанища не
столько для себя — друг летучих мышей и звезд, я
привык проводить ночи под открытым небом, —
сколько для своего чемоданчика, в нем был весь
мой дом, и я оставил его в вокзальном хранилище.
Тогда-то я и наткнулся на своего друга из
Сaссари, которого давно потерял из виду, — Симона
Пау, человека без предрассудков и большого
оригинала.
Выслушав, в каком жалком положении я нахожусь,
он предложил мне переночевать в своей
гостинице. По дороге я рассказал ему о своих
бесчисленных злоключениях и о тех слабых надеждах,
которые привели меня в Рим. Время от
времени Симон Пау запрокидывал голову, его
длинные до плеч волосы были разделены по моде
Назарета на прямой пробор, который в действительности
был кривым, поскольку волосы зачесывались
пальцами. Заложенные неопрятными
прядями за уши, они собирались сзади в смешной,
жидкий и неровный хвостик. Приостанавливаясь,
он выдыхал клубы дыма, слушая мой
рассказ с открытым ртом, с мясистыми, вывороченными
наружу губами — точь-в-точь античная
комическая маска. Мышиные глазки — хитрые
и юркие, взгляд бегал из стороны в сторону,
словно попал в ловушку его крупного, грубо слепленного
лица — лица жестокого и безвредного
деревенского мужика. Я думал, он так долго не
закрывает рта, потому что собирается посмеяться
надо мной, над моими бедами и надеждами.
Но вдруг я увидел следующее: он остановился
посреди улицы, которую караулили зловещие
фонари, и громко в ночной тишине произнес:
— Извини, а откуда мне знать, что гора — это
гора, дерево — дерево, а море — море? Гора есть
гора потому, что я говорю: «Вон то — гора». Из
этого следует, что я и есть гора. Кто мы? Мы то,
чем в данную минуту себя ощущаем. Я — гора,
я — дерево, я — море, а также звезда, которая о
себе ничего не знает.
Я опешил. Но ненадолго. Ибо и во мне сидит
вросший корнями в самую глубь моего естества
тот же недуг, что и у моего приятеля.
Этот недуг, по-моему, убедительней всего
доказывает, что все происходящее происходит
потому, что земля создана не столько для людей,
сколько для животных. Ибо у животных от
природы есть ровно столько, сколько им надо,
сколько необходимо, чтобы выжить в условиях,
в которые они, сообразно своей разновидности,
были помещены; тогда как люди наделены
бoльшим: они наделены тягой к излишеству,
которая их бесконечно и совершенно зазря терзает;
из-за нее они вечно недовольны любыми
условиями жизни и постоянно испытывают
чувство неуверенности, тревожатся о своей судьбе.
Необъяснимая тяга к излишествам, создающая
фиктивный, выдуманный мир, имеющий
смысл и значение только для людей, которые,
не удовлетворенные этим миром, без конца, без
устали, не зная покоя и отдыха, вечно меняют,
переделывают его, как игрушку, выдуманную с
целью объяснить (и тем самым исчерпать) деятельность,
у которой нет ни цели, ни оснований,
и это лишь усугубляет их мучения, все больше
отдаляя от законов, которые природа создала для
жизни на земле и которым остаются послушны
только звери.
Мой друг Симон Пау искренне убежден,
что он выше животного, на том основании, что
животное не обладает знанием и довольствуется
повторением одних и тех же действий.
Я тоже убежден, что он перерос животное,
хотя мое убеждение строится на иных основаниях.
Что проку в том, что человек не удовлетворяется
повторением одних и тех же действий?
Основные действия, обеспечивающие жизнедеятельность
организма, он, подобно животным,
должен, положим, повторять ежедневно, если,
конечно, не хочет откинуть концы. Что же касается
остальных действий, лихорадочно перетасованных
и переделанных бессчетное количество
раз, — не может быть, чтобы человек рано
или поздно не увидел, что все это иллюзия и
суета, плод, всего лишь плод того излишества, у
которого здесь, на земле, нет ни цели, ни основания.
И вообще, кто сказал моему другу Симону
Пау, что животное не обладает знанием? Оно
знает ровно столько, сколько ему необходимо
знать, и не отягощает себя ничем лишним, ибо
у животного нет тяги к излишествам. А человек,
в жизни которого излишеств хоть отбавляй,
мучается такими вопросами, которым на земле
не суждено найти решения. В этом-то и состоит
его превосходство! Вполне допустимо, что
его мучения как раз и есть знак и доказательство
(но только не залог!) существования другой,
неземной жизни. Но поскольку на земле
все устроено так, как устроено, мне кажется, я
прав, когда утверждаю, что земля создана скорее
для животных, чем для людей.
Боюсь, что меня неправильно поймут. Я имею
в виду, что человеку на земле уготовано гнусное
житье потому, что в нем заложено больше, чем
требуется, чтобы жить на ней хорошо, в достатке
и довольствии, в мире и согласии с собой. То,
что есть в нем (и в силу этого он человек, а не
животное), для земли действительно излишек —
доказательством тому служит факт, что этот
«излишек», из-за которого человек ни в чем не
находит здесь ни успокоения, ни утешения, заставляет
его искать и вопрошать за пределами
земного бытия, за что такая мука, и требовать
удовлетворения. И тем хуже человеку живется
здесь, чем больше ему неймется, чем лихорадочнее
он вовлекает свое стремление к излишеству
в создание на земле химерических, безумных, до
крайности запутанных и сложных построений.
Я — тот, кто вертит ручку, — знаю об этом
не понаслышке.
Вот что примечательно в моем друге Симоне
Пау: он думает, что полностью освободился от
всех «излишеств», свел до минимума свои потребности,
лишил себя удобств и влачится по
жизни, как увесистый голый слизняк. Он не
видит, что, доведя себя до такого состояния, он
как раз, наоборот, с головой погрузился в излишество,
купается в нем и ни о чем другом не
помышляет.
В тот вечер, оказавшись в Риме, я всего этого
еще не знал. Я знал Симона Пау, повторяю,
как большого оригинала, как человека, лишенного предрассудков, но не мог предположить,
что его оригинальность и непредвзятость доведены
до такой степени, об этом расскажу ниже.