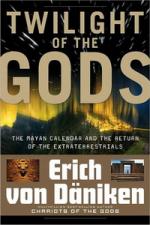Отрывок из романа
— Раз, два, три, проверка. Раз, два, три, проверка… Что
за х-х-холера-то?.. Работать будем? Раз, раз… ш-ш-ш-ш…
а так?.. Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик пострелять,
вдруг охотник выбегает, зайчик целится, стреляет…
Ага, так нормально. Чудо техники. Непоротый суомский
гений. Меню какими ручками ваяли? Двумя левыми
задними?.. Ладно, проехали. Итак, мы ведем наш репортаж
из поезда Петрозаводск—Мурманск, вагон шестой, полупустой…
Меня зовут Константин Никитин, сегодня двадцать
восьмое июня, первый день экспедиции — ну и так
далее. Буду делать такие заметки каждый день, пока чтонибудь
не кончится: батарейки, память или мой железный
самоконтроль. Понятно, что никому мои умственные
упражнения на фиг не сдались, зато опыт. А опыт надо извлекать
из всего. Не путаем с пользой — вот уж чего от
большинства моих кол-л-лег никто никогда не дождется.
Но вот дрозофилы — тоже звери бессмысленные и бесполезные,
а сколько на них всего наоткрывали, а! Итак, тема
тренировочного исследования: «Этнографические наблюдения
за фольклористами и этнографами: нравы, обычаи,
ритуалы, примитивные брачные обряды». Ну, сегодня рассказывать
просто не о чем, пересадка… вокзал такой прикольный,
со шпилем, и чисто… ну и все. Едем. Полночь,
а светло…
Меня действительно зовут Костя Никитин. По крайней
мере, все так считают, и даже я — бoльшую часть времени.
Есть документы, фотки с самого детства и по сю пору, родители
меня узнают, все вроде бы в порядке… только вот кот
Буржуй не подходит — не убегает, но и не подходит, шагах
в двух держится, — и в зеркале я себе не нравлюсь. Особенно
когда нечаянно глазом отражение зацепишь…
Я буду писать от руки и на бумаге, хотя и это глупость,
и написанное на бумаге может измениться не хуже,
чем набитое на винт. Но так мне почему-то чуть-чуть
спокойнее.
Записать все, что произошло, меня побуждает страх.
Слишком быстро все испаряется из памяти. Может быть,
через неделю или через месяц я вообще забуду эту поездку
и она заместится чем-то придуманным. Например, поездкой
в Монголию, не Внутреннюю, а самую настоящую,
и у нас появятся смешные меховые шапки и бараньи жилетики
— других сувениров и не придумывается, — много фотографий
в бессмертном туристском стиле «темная морда на
фоне яркого света», а в паспортах образуются самые настоящие
визы. Ну не визы, а пограничные штемпели. И в универе
еще много лет будут рассказывать о нежданно привалившей
загранпоездке по обмену. Стоп, по обмену? Значит,
наши родные угро-финны должны помнить, как к ним приезжали
монгольские студенты и изучали… Так, монгольские
этнографы — это даже круче, чем монгольские яхтсмены.
Что меня спасает — отвратительное воображение и угрюмый
здравый смысл. А то повыдумываешь, повыпендриваешься,
глядишь — а все уже на самом деле так и течет…
Мне обязательно надо зафиксировать, что было на самом
деле. Хотя бы то, что помню сегодня. Это уже меньше,
чем я помнил вчера, но вчерашнее еще можно попытаться
восстановить.
А может, я так и буду продолжать забывать, забывать —
и забуду вообще все, что было со мной когда-то в жизни, а на
место этого придет придуманное кем-то — и если повезет,
то мной.
Уже почти никто ничего внятно про нашу поездку не
помнит, вот что особенно страшно. Артур — тот совсем обнулился.
Пустота. Отформатированный логический диск на
винчестере. И Патрик — почти ничего. И Джор не помнит.
Вернее, нет. Я расспросил как следует. Джор довольно много
помнит, но как кино, которое смотрел десять лет назад и потому
путает с другими фильмами. Про остальных вообще
молчу, особенно про девчонок.
Так, стоп.
Маринка помнит. Ничего не говорит, потому что… но
я все понимаю.
Да, в диктофонной записи небольшая ошибка. Поезд
не Петрозаводск — Мурманск, а Санкт-Петербург — Мурманск.
Думаю, я так ляпнул потому, что садились мы на него
не в Питере, а в Петрозаводске. Хотя…
Ни в чем нельзя быть абсолютно уверенным. Ни в чем.
Итак, смотр рядов и полная инвентаризация: что у нас
есть в наличии? Моя собственная память, которая в голове.
В ней информации больше всего, но я ей по понятным
причинам не слишком доверяю. Уже упомянутый здравый
смысл — им я проверяю разные свои догадки и вычисления,
а еще долблю факты из разных источников на достоверность
и противоречивость. Здравый смысл у меня вполне приличный
и намного смышленей меня самого. Правда, он — ровно
один.
Идем дальше. Диктофонные записи. Их сорок одна штука,
разной длины, разборчивых — только девятнадцать.
Остальное… как будто случайные включения, какие-то
шумы, звуки, посторонние голоса… Пытался разобрать, но
мало что вышло. Есть еще записи в блокноте ручкой и карандашом.
Это примерно двадцать страниц моим размашистым
почерком, и там встречаются очень странные вещи. Самые
странные из всех, я бы сказал. Почерк мой. Но я в упор не
помню, чтобы хоть что-то писал от руки в блокнот. Ну и наконец,
фотографии у каждого. Хайям, пока связь была, ухитрялся
с мобильника даже в блог что-то скинуть. Вот на фотографиях
все как будто в порядке. Как будто ничего и не
происходило. Отряд, сотрудники отряда, рабочие моменты
экспедиции — куда-то идем, варим еду, берем интервью…
в общем, если бы не те два десятка снимков, можно было бы
подумать…
Кстати, блокнот этот мне подарила Инка Патрик. У меня
день рождения расположен удачно — как раз в конце сессии.
Праздновать тяжело, конечно, потому и не праздную.
Я вообще не люблю свой день рождения. Чужие — сколько
угодно… Блокнот этот с толкованием имени и гороскопом.
Не знаю даже, что по этому поводу и думать.
«Имя: Константин.
Значение: „стойкий, постоянный“.
Происхождение: имя пришло из Византии.
Характер: в детстве очень боязлив, постоянно находится
в состоянии тревоги. Очень трудно привыкает к чужим
людям и новой обстановке. Привыкание к детскому саду
и школе потребует от Константина значительных усилий
и будет стоить родителям немалых волнений. С возрастом
избавится от комплекса страха, но сходиться с людьми будет
трудно. Друзей имеет немного, но все они проверены
временем.
Константин — ответственный и добросовестный работник.
Своему делу отдает всю душу. С подчиненными деликатен,
его приказы больше похожи на просьбы. Может расстраиваться
из-за мелочей.
У Константина тонкое чутье на прекрасное. Он способен
увидеть в человеке едва заметные достоинства и открыть
их другим. В то же время Константин может увлечься яркой
и эффектной женщиной, добиваться ее расположения.
Женившись на такой женщине и обнаружив ее душевную
и нравственную пустоту, быстро охладевает в своих чувствах.
Развод переносит тяжело. Настороженно относится
к теще».
Такие вот четкие и подробные предсказания ближайшего
будущего…
Ничего не сбылось. И про детский сад тоже наврали.
И вот еще что. Почему-то застряло в памяти несколько
сцен, которые к делу вроде бы отношения не имеют. И даже
как-то некрасиво выпирают. Но я на них все равно постоянно
выруливаю. Как неумелый велосипедист, который боится
въехать в яму — и именно поэтому в нее попадает. За двадцать
метров начинает объезжать, потеет, высчитывает расстояние,
скорость, не по формулам, конечно, в голове, интуитивно,
все высчитывает, а потом ап! — или руль вдруг из
рук вывернулся, или другая яма под колесо бросилась. Фиксация.
Я уже пробовал писать без них, брать лишь самое
главное, но понял — не-а. Никак. Это такие якоря, что ли.
Или как у скалолазов — костыли и «сухарики». Пока не закрепишься,
дальше лезть нельзя. Поэтому теперь пишу подряд
все, что могу вспомнить, или восстановить по записи,
или успеваю прихватить. Потому что время от времени чтото
на полсекунды приоткрывается, картинка, движение, запах…
и чаще, конечно, тут же стирается начисто. Но кое-что
остается, хотя бы ненадолго. В мускульной памяти, на сетчатке
глаз. В башке мысли застревают странные, не мои.
А в горле — звуки ворочаются, как камушки. Да такие, что
буквы для них надо уже придумывать.
Черт. Я тут ерничаю… Мне страшно. Мне реально страшно,
ребята.
Официально это называется «экспедиция», но все говорят
«отряд». «Фольклорный отряд», «этнографический отряд» — ну и так далее. «Сотрудник отряда». Отряды отправляют,
когда у универа есть деньги. Два года до этого денег
не было, поэтому фольклористы собирали городской фольклор,
а этнографы изучали быт гастеров и обычаи неформальных
групп. Патрик, например, врубилась в тему, чем
готы отличаются от эмо и почему они готовы друг дружку
поубивать (и съесть). Она даже мне это впарила. Раньше
я их как-то и не различал даже. Азиз — как особо продвинутый
— пытался притвориться гастером, наняться на работу
и заселиться в подпольную общагу. Раскололи в момент, хотели
бить, спасло студенческое удостоверение и подвешенный
язык. У него прозвище — Омар Хайям. Вся общага на
плов скинулась, весь вечер большого ученого человека славили,
а он стихами отвечал. И чужими, и собственноручно
сочиненными.
За плов ему долго еще стыдно было, на деньги, что у него
на безлимитку уходят, те работяги месяц живут. И рис тот
был — не покупной, а узгенский розовый, из дому привезенный.
После практики, правда, Азиз знатно проставился,
и еще раз с курсовика, все по чесноку. Но… Эксперимент пошел
не по плану.
А Маринка так увлеклась своими ролевиками, что теперь
немножечко сама. И даже не немножечко. Доспех у нее есть,
на мечах рубится. Хорошо, что Рудольфыч отговорил ее от
намеченных по плану готов. Полку эмо могло бы и поубавиться,
Маринка — человек азартный. А так — только поприкалывалась
немножко и пошла искоренять силы зла.
Можно с двумя заглавными буквами. Было весело.
А в этом году деньги наконец появились, но мало.
И отряд отправили один, смешанный: фольклорноэтнографический.
То есть с филологического факультета
и с исторического. И хотя из опыта всем давно известно,
что историки и филологи — это пусть и не совсем то же самое,
что филологи и восточники, и даже не фанаты «Зенита» и фанаты «Спартака», — но в одном помещении дольше
получаса… обязательно чем-то кончается; обычно пьянкой,
но бывает и что-то совсем другое, неожиданное. Не всегда
предсказуемое.
Вот список:
1. Начальник отряда — Сергей Рудольфович Брево, он же
Рудольфыч, он же Рудик, — ассистент кафедры фольклористики
филфака.
2. Помощник начальника — Артур Кашкаров, мэнээс
РЭМа и почасовик на истфаке, только в прошлом году закончил
«Герц». Нехороший человек.
3. Инесса Патрикеева, или просто Патрик (склоняется —
в грамматическом смысле — только иногда и только по настроению)
— истфак, кафедра этнографии, четвертый курс.
Свой парень.
4. Аська Антикайнен — истфак, третий курс. Надо присмотреться.
Рыжая.
5. Витька Иорданский, или просто Джордан, — истфак,
четвертый курс. Здоровый бугай с могучим мозгом.
6. Марина Борисоглебская, она же Буча, — истфак, третий
курс. Я ее с детства знаю.
7. Вика Кобетова — филфак, третий курс. По-моему, дура.
8. Азиз Раметов, он же Омар Хайям, — филфак, четвертый
курс. Коренной питерский узбек. Готовить не умеет.
9. Валя Коротких — филфак, третий курс. Не раскрылась.
10. Аз, грешный есмь, — истфак, четвертый курс.
Этот список я составил по собственным записям. Кого
упоминал там по ходу событий — или по имени, или по
приметному чему. Отряд получается ненормально большой,
обычно бывает шесть человек, редко восемь. Ну, может
быть, потому что сводный? В общем… я никак не могу
себя заставить поверить, что упомянул всех. Говорю «упомянул» — потому что не вспомнил, а восстановил. Потому
что вспомнить всех сразу — не могу. На фотографиях то же
самое — по двое, по трое. Одно лицо есть вообще незнакомое…
В деканате лесом послали, ребят от моих вопросов уже
тошнит, и хорошо, что в психушку в наше время только по
предварительной записи да по большому блату попадают.
Главное, теперь бы не забыть и не потерять: десять человек.
Десять как минимум.
«Под парусом черным ушли мы в набег…»
1
С чего же нам начать-то? С чего-то надо. Ну, пусть будет
так: «Жил-был мальчик, и было у него две девочки…»
Это я Артура имею в виду, если кто не в курсе. Про него
рассказывать можно неопределенно долго. Он вообще такой…
ускользающий, что ли. Струящийся. Что о нем ни скажи, будет
не вся правда, а меньше половины. Герц свой педагогический
он закончил с таким отличием, что там ректорат готов
был засушить его и запереть в сейфе на память, а РЭМ, который
посмел такое сокровище перехватить, — сжечь, разнести
по кирпичику и пепелище посыпать солью. Ну и в РЭМе
его, конечно, тоже целуют во все места и продвигают куда-то
вверх, в сияющие золотые небеса чистой науки. И по-моему,
все по делу, потому что настоящий ученый он уже сейчас,
а всякие там степени и звания — вопрос ближайшего времени
и, так сказать, автоматизма системы. В списке пятидесяти
лучших молодых ученых России я его сам видел…
При этом вот лично мне, Косте Никитину, дела с ним
иметь никогда не хотелось. Я даже не могу толком объяснить
почему. Почему-то. Мне и в РЭМ-то иной раз влом
было идти, потому что почти наверняка я бы его там встретил.
Это я еще с ним и знаком-то толком не был, и ничего
компрометирующего о нем не знал. Голос у него, что ли, такой
или парфюм? Один раз он мне даже приснился: взял
меня всей пятерней за морду и так брезгливо оттолкнул.
Я ему этого сна никогда не прощу.
У него родители в разводе, мать богатая, а отец ботаник
— в обоих смыслах. Может, поэтому все так? В смысле
— не так?
Я себе не то чтобы мозги вывихнул… но, в общем, некоторые
усилия пришлось — да и постоянно приходится — прикладывать,
чтобы совместить: да, такой вот талант, эрудит
и надежда нашей этнографической и антропологической науки
— вполне может быть и простым однозначным говнюком.
Так сложилось. Не правило, не закономерность такая,
но и не исключение из ряда вон. Тем более что в нас во всех
есть прошивочка: талантливым людям прощается чересчур
многое, вон Пушкин как весело по чужим женам развлекался,
сукин сын, — а ведь если бы замочил на дуэли кого-то
из рассерженных мужей и огреб, что положено по закону, то
все все равно бы говорили: ну, несчастье-то какое, не повезло
нашему гению, и людишко-то ему подвернулся так себе,
не зачетный… а значит, и гений наш пострадал прямо почти
ни за что, и вообще могли бы учесть, смягчить, закрыть глаза
на этот дурацкий случай. Мужей много, а Пушкин один.
Нет, вы не подумайте, что я Пушкина не люблю, наоборот, —
просто я к тем, кого люблю… ну, по-другому отношусь немного,
строже, что ли. Себя вот не очень люблю, поэтому
много чего прощаю. А любил бы — не прощал бы, нет. Просто
изводил бы придирками.
Удобно, правда?
Так вот, возвращаясь к пройденному: Артур говнюк. И,
как говорили наши недавние предки, — мажор. Только он
мажор с комплексами по поводу папы-ботаника, и от этого
все только хуже. Мажор с комплексами. Мажор, не уверенный
в себе. Он ездит на «ауди», и поэтому мы зовем его
Властелином Колец. Машина не новая, после капремонта
(и я подозреваю, что вообще конструктор — собранная
из нескольких), но заметить это может только наметанный
злой карий глаз. Как у меня например.
Зачем тебе такая машина, спросил я его как-то; мы совершенно
не подружились, но вынужденно много общались;
работа сближает.
Я сам долго думал, сказал он честно, и только потом понял:
это машина для съема.
Если бы он снимал девок только на стороне, я бы ничего
против не имел — с какой стати? В конце концов, это обоюдный
процесс, включающий и мальчиков и девочек. Примитивные
сексуальные ритуалы. Инициация. Формирование
основных поведенческих инстинктов. Но он хватал за все
места и тех девчонок, которые работали у него как у научрука,
а вот это, по-моему, препоганейшее нарушение нравов
и обычаев. Ты же ученый, а не рокер. Им положено. А тебе
западло. Кто сказал? Никто конкретно не сказал. Традиции
веков. Не обсуждается.
Но он таких непонятных тонкостей не признавал. Все
мое.
То же самое, кстати, и с их научными работами… Все,
что создано под моим руководством, — все мое. И вот тут,
кстати, даже на традицию не всегда обопрешься. Могут
и облокотиться.
С Маринкой у нас никогда ничего не было, и даже в мыслях
я фривольного не держал, потому что — ну почти сестра.
В одном доме росли, в садике на одном горшке сидели
(с интервалом в несколько лет, но это не в счет). Какая тут
к черту романтика? Я в нескольких американских фильмах
такие дебильные парочки видел — друзья настолько, что никаких
нормальных биологических чувств, а потом они вдруг
сталкиваются лбами, прозревают и понимают наконец, что
были созданы друг для друга. В жизни с таким я никогда
не встречался и слышать не слышал. Потому что случаи
конгруэнтно-избирательного идиотизма, наверное, феноменально
редки. Поскольку не способствуют выживанию.
И про увлечения ее я многое знал и, собственно, относился
к этому без выраженных эмоций. Она даже приходила
ко мне советоваться по поводу одной поначалу довольно забавной
ситуации, которая грозила стать совсем не забавной.
И я что-то посоветовал, и — уж благодаря ли моему совету
или вопреки — но ситуация быстро и бескровно рассосалась.
Сам же я медленно и осторожно, ходя кругами, присматривался
к Инке. Смущало только одно — что эта дылда
выше меня на два пальца. А так…
Вру, опять вру. Вовсе не это меня смущало. А то, что если
с человеком по-настоящему сближаешься, то он рано или
поздно получает доступ к твоим слабым местам. А я к этому
еще не готов… во всяком случае, думал, что не готов. В Инке
был стержень, хороший каленый стержень. Это многих отпугивало,
и я тоже, как остальные идиоты… в общем, вел
себя глупо. Однако кругами ходить не переставал.
И тут Маринку решительно и по-спортивному быстро
подцепил Артур. На счет «раз». Подсек, не вываживая —
дернул, да и на сковородку, жарить. Казалось бы, ну что мне
до этого? Вот. Ничего. А я взбеленился. Это был апрель. Да,
самый конец апреля. Не март, конечно, но все равно весна —
тем более такая запоздалая.
Мы ходили по колено в воде.
Потом началось наводнение — потому что сразу и ливни,
и тает снег, и ветер южный ураганный, и дамба уже наоборот
— мешает воде вытекать… В общем, три или четыре
дня не ходило метро, неделю не было занятий. Первые этажи
универа залило. Говорили, что не обошлось без жертв —
не на Васильевском, правда, а на Крестовском — смыло несколько
машин, и еще возле Невского лесопарка — там
вообще автобус снесло в реку, и чудо, что он оказался почти
пустой.
Все эти дни я сидел дома и не мог перестать думать о том,
как бы мне утопить Артура, чтобы никто ничего не видел
и чтобы не оставить следов преступления. Все планы
были блестящи. Единственно, что меня остановило, так это
дождь: мерзкий, всепроникающий, почти горизонтальный.
Ходить против него можно было только медленным кролем
— а я почти не умею плавать.
Каждый вечер к соседнему парадному подъезжала темносерая
«ауди», и несколько минут спустя Маринка в зеленом
плаще с капюшоном выкатывалась из-под козырька и прыгала
на переднее сиденье.
Я, между нами говоря, не всегда себя понимаю. Во всяком
случае, реже, чем других. Чего я взбеленился, скажите?
Повторяю, никогда я Маринку не представлял рядом с собой,
никогда не ревновал ее к другим парням, а тут… Затмение
нашло. Амок, говоря выспренним старинным штилем.
Лбом и коленками я пересчитал все твердые острые углы
в нашей нелепой квартире, целыми днями слоняясь от кухонного
окна, уставленного горшками с чем-то зеленым,
которое никогда не цвело, и до навечно запертых межкомнатных
дверей в моей комнате — за ними были еще две анфиладные
комнаты, чужие, других хозяев, и на моей памяти
в них никогда никто не жил, кроме мышей. На двери висела
карта адмирала Пири Рейса, там же его портрет и — повыше
— портрет Миклухо-Маклая. Не представляю, что они
не поделили, но старательно смотрели в разные стороны, игнорируя
друг друга.
2
Как и положено в этой реальности, спасла меня сессия.
После сдачи этнографии Северного Урала я проснулся сравнительно
нормальным человеком, способным даже с иронией
и сарказмом посмотреть на себя прежнего. Хотя, конечно,
иронический и даже саркастический взгляд на столь жалкое
существо не делал мне чести…
Тогда, кстати, и стало наконец известно, что денег на летний
полевой сезон ректорату удалось немного добыть и что
отряд начинает в спешном порядке формироваться. Под командованием
кэфээна Брево, фольклориста. А мне пофиг,
сказал я себе, пусть будет фольклорист, я не сноб. Пошел
и записался среди первых. И Патрик записалась — еще раньше
меня.
Вот… А буквально через день-два после этого Артур этак
легко и непринужденно Маринку отпустил: дескать, покапока…
что, ты еще здесь, золотая рыбка?
И завел себе Вику.
Типа решил отдохнуть от брюнеток и попрактиковаться
на блондинках. Вика, между прочим, была натуральной
блондинкой. В обоих смыслах.
Кстати, я долго думал, что если у блондинок корни
волос темные — то это значит, что блондинка не настоящая,
а крашеная. Так вот — фиг. Смотреть надо не
на цвет корней, а на плавность перехода: если граница
светлого и темного резкая, вот тогда крашеная. А если переход
плавный — натуральная.
Зачем я это говорю? Просто так. Может, пригодится комунибудь.
Из-за какой только фигни люди себе жизнь не калечили.
Может, я кого-то сейчас спасаю.
Вы ведь только представьте, Маринка как-то не сразу поняла,
что ей дали отлуп. Не, не так. Гирьку с весов скинули,
граммовую такую, почти глазом не видимую. Вынесли за
скобки и сократили. С рукава сдули вместе с пухом.
Знаете, такое даже с самыми умными людьми бывает: тупят.
Особенно если что-то серьезное и в первый раз. А некоторые
вещи случаются только с умными, у кого мозги быстрей
рефлексов. Что, неужели это со мной? Так не бывает…
Ведь никаких признаков не видел. Всему находил объяснения.
Предательство и смерть — это то, что случается только
с другими… ну и тому подобное. Зато когда до нее наконец
дошло…
Мы — отряд — как раз собрались в общаге на Кораблях
на предмет инвентаря. У кого-то из наших давно было все
свое: рюкзаки, спальники, пенки, посуда, — а кому-то приходилось
занимать у археологов и геологов — они обычно
отправляются на практику тогда, когда мы уже возвращаемся.
Лежалое старье стаскивали от добрых людей, и Джор раскладывал
это по полу рекреационной комнаты — осмотреть
и слегка проветрить; а Маринка, Валя и Аська Антикайнен
устроили волейбол в кружок. Мы с Хайямом как раз сравнивали
достоинства трех мыльниц — моего «панаса», его «никона» и отрядного «пентакса», у которого был один серьезный
плюс — это неубиваемость и непромокаемость, а все
прочее — только минусы. Так что именно тогда я сделал
первый сенсационный снимок события… как это по-русскy…
«события, положившего начало длинной цепочке других событий,
приведших к логическому концу…».
Я стебусь, ребята, хотя при этом говорю чистую правду.
Первое в цепочке событий. Взаимосвязанных притом.
Короче: Маринка усмотрела, что Артур, сидя рядом с Викой,
приобнимает ее не за плечико и не за бочок, что было бы
естественно, и даже не за задницу, что еще туда-сюда. И мяч,
конечно, у Маринки с руки срезался и по идеальной прямой
пришел Артуру прямо в нос. Говорил я, что они в волейбол
играли старинным тяжелым заскорузлым кирзовым мячом
со шнуровкой? Так вот, именно шнуровкой мяч и лег в цель.
Хо-хо. КМС по волейболу, если кто не знал.
А я как раз смотрел туда же, куда и Маринка, но не прямо,
а через мониторчик «пентакса» и кнопочку уже держал
нажатой. Не стяжая лавров папарацци, просто глазами наблюдалась
некая странность в позах, а в привычных руках
«мыльница» легко заменяет бинокль. Затвор сработал удивительно
вовремя (ну, вы знаете эту, перемать, особенность
фотомыльниц: они снимают не в тот момент, когда нажмешь
кнопку, а долей секунды позже; сколько великих моментов
так и остались недозапечатленными). И кадр вышел что
надо (а если б специально снимал — не успел бы): отлетающий
вверх мяч, валящийся назад со скамейки Артур (ноги
в стороны и вверх), вцепившийся судорожно в то, что полсекунды
назад нежно поглаживал… И Вика, делающая ручками
вот этак и в ужасе смотрящая вниз и вбок: оторвал или
не оторвал?
Хороший снимок. Динамичный. Вот он.
…Я все думаю: если бы Маринка попала сантиметром
ниже и не просто рассекла Артуру кожу на переносице,
а сломала бы носовой хрящ, и поехал бы с нами не он, а ктото
другой — Вася-боцман например? Изменилось бы чтонибудь?
И вообще — случилось бы что-нибудь?
Хороший вопрос, правда? Я все пытаюсь на него
ответить…
Ну, дальше отметили мой день варенья — узким кругом.
Я почему-то до дрожи не люблю свои дни рождения. Это
еще с детства у меня. Помню, меня закармливали клубникой
и черешней. Клубнику и черешню я из-за этого тоже теперь
не ем.
Родители посидели немного за столом и ушли — типа гуляйте,
молодежь! — а скоро ушли Джор со своей метелкой
(Джор, извини, если ты это читаешь, но она, ей-богу, похожа
на метлу, честное слово) — оставили нас с Инкой наедине.
Я ей немного попел, потом проводил домой. Потом вернулся
и в одиночку надрался. Что-то пел — орал — сам себе, глядя
на отражение в дверце полированного шкафа. Прощай, братан,
тельняшку береги, она заменит орден и медаль. А встретимся,
помянем мы своих. Как жаль тех пацанов, ну как их
жаль. Порвал струны.
Мне было так тоскливо, что не передать.
Купить книгу на Озоне