Один из крупнейших современных прозаиков Захар Прилепин кроме литературной и редакторской работы, воспитания четырех детей, занят еще и собственным музыкальном проектом — группой «Элефанк», которая готовится выпустить третий альбом. Иван Шипнигов поговорил с Захаром о том, как писатель становится музыкантом, как Прилепин перестал быть Горьким, и что ОМОН должен чувствовать момент, когда нужно отойти в сторону.
— Вопрос банальный, но очевидно необходимый: почему вы стали заниматься музыкой? Вашу деятельность и так не назовешь однообразной, можно ли предположить, что это выполнение давнего желания, которое стало очень уж настойчивым?
— Ну, да, наверное — давнее желание, что-то из детства. Мне не то что бы ужасно хотелось стоять на сцене и кричать в микрофон — тут другое: само совместное музыкальное действо порождает во мне очень сложную и крайне заводящую меня гамму чувств. В музыке заложены какие-то вещи, которые просто покоряют мою физиологию. Сколько я себя помню, в нашем доме, еще в каком-нибудь 1980 году, на катушках и на пластинках играла музыка. Это действовало на меня так, как будто я заглядывал за край — а за этим краем совершенно новый мир, где краски резче и чувства еще ярче.
В общем, мне всегда хотелось за этот край. Это сродни страсти путешественника или солдата удачи — музыка, которую ты еще не придумал — это ведь тоже неизведанная земля. Ты пошел за этой музыкой — и принес ее, как парчу, как шелк, как свою наложницу. Это ни с чем не сравнимое ощущение.
— Сколько человек у вас в группе, как их зовут? Как проходят концерты, приносят ли они доход? Какая роль лично у вас — в сочинении музыки, текстов, в исполнении?
— Нас четверо — я, Геннадий «Ганс» Ульянов — гитары, Максим Созонов — клавиши, и Спартак Губарьков, труба. И еще несколько ребят — наших товарищей — помогают нам в записях. Музыку мы пишем все четверо, хотя основная часть, конечно, на Генке — он, на мой взгляд, великолепный мелодист, паранормальное явление, уникальный музыкант… Хотя есть и другие варианты. Песни могут появиться, когда Генка садится вдвоем с Максом, и они слету что-то придумывают: Генка с гитарой и у микрофона, и Макс за клавишами. Часть мелодий я придумываю дома один, под гитару, потом даю ребятам — и они делают так, чтоб это звучало. В новом альбоме будут, как мы это называем, «пьесы», которые придумал Спартак на трубе — и принес в группу. То есть, как угодно случается. Были, например, песни, которые мы вдвоем с Генкой придумывали — сидели ночами и напевали что-нибудь, пока это вдруг не становилось новой нашей вещью.
Тексты, естественно, пишу я, иногда беру в руки гитару, часть текстов пою или зачитываю, хотя основные вокальные партии — все равно за Генкой, потому что я петь не умею, а он умеет…
Но в любом случае, конечной инстанцией в группе, признаюсь честно, все равно являюсь я: в дело идут только те песни, которые отвечают моим представлениям о том, как это должно звучать. И если всем нравится, а мне нет — такой песни не будет, или она будет переделана так, как я ее слышу.
Так что, у нас хоть и квартет, где все, как в «Битлз», равны, но я несколько равнее равных.
— Как вы бы определили стилистику свой музыки? Панк-шансон?
— Ну да, это Генка так говорит в шутку — панк-шансон. И еще — диско-панк. И еще — рэп-фанк. Если серьезно, это точно не имеет отношение к шансону. К панку — тоже. К диско — опять нет. Там есть некоторые элементы фанка и рэпа, но тоже в умеренном количестве. Так что я затрудняюсь определить стиль. Но я точно знаю, что прямых аналогов в российской музыке у нас нет. То есть найти группу, с которой мы могли бы играть один концерт для примерно одной и той же публики — достаточно сложно.
И я бы не сказал, что меня это как-то волнует.
Хотя… Может быть, «Ундервуд». Не по музыке даже, а просто — по ощущению. Впрочем, я не уверен, что им наша компания будет приятна!
— Очевидна параллель между вами и другим писателем-музыкантом — Михаилом Елизаровым. Знакомы ли вы с его довольно оригинальными композициями? Как к ним относитесь? Он признавался в интервью, что разочаровался в современном литературном процессе и ушел в музицирование практически полностью. Как вы себя чувствуете в этом самом процессе, нет ли желания все бросить и рубиться по клубам?
— Параллель как раз неочевидная. Мне очень нравятся несколько Мишкиных песен — «Зла не хватает», про белый ноутбук, про фашистов — все это просто шедеврально. Ну в большинстве его песен слишком много физиологии и прочей жести — я все-таки консервативный человек, почвенник и деревенщик, я не люблю, когда слишком много всех эти внутренностей сразу на меня вываливают. Тем более музыку я, как правило, слушаю в машине с детьми — им все это совершенно незачем… Но в любом случае, Елизаров — крайне одаренный человек и прозаик высочайшего уровня — один из лучших в России. Просто он сказал на сегодняшний момент все, что нужно сказать в прозе, и решил немного попеть. Напоется, и снова напишет отличную книгу. Может, уже пишет.
У меня желания все бросить и рубиться по клубам нет, хотя, если Бог даст, и я допишу свой новый роман — я как раз месяца на три забуду о писательстве и немного поиграю с «Элефанком». Доделаем третий альбом и прокатимся по стране. Играем мы хорошо, я думаю, людям понравится — такой радостной музыки у нас мало.
— Вы не раз признавались в любви к рэпу. Но на выпущенных вашей группой альбомах, насколько я заметил, рэпа нет. Нет хотите сами поэкспериментировать в этом жанре?
— У нас есть по паре околорэповых композиций в каждом альбоме («Укол» в альбоме «Времена года», «Тата» и «Чисто по-пацански» в альбоме «Переворот»), в третьем тоже будет одна рэп-песня. Или две… Но вообще мы все-таки, поймите меня правильно, музыканты, поэтому — взять семпл, сделать бас и начитать — это все-таки не совсем наш путь. Куда приятнее, когда тебя самого растаскивают на сэмплы.
Но вообще лично я уже поэксперементировал с рэпом по полной программе. Для начала я записал совместную песню в рамках проекта «Лед 9» — созданного культовой рэп-группой «25/17», и очень этим горжусь. Трек называется «Котята два», мы сняли на него клип, можете ознакомиться. Помимо этого, мы только что сделали совместный альбом с рэпером, которого зовут Ричард Пейсмейкер. Альбом называется «Патологии» — ищите в Сети, он уже выложен, в том числе и на моем сайте, и на сайте Thankyou.ru, и выпущен отдельным диском, с очень стильным, кстати сказать, оформлением.
Следующий шаг, надеюсь, будет совместным с Висом Виталисом, прекрасным исполнителем и сочинителем, одним из самых любимых моих рэперов.
— Остро-политический вопрос, куда же без него. С одной стороны, вы в прошлом боец ОМОНа. С другой, в настоящем — оппозиционер с достаточно жесткой позицией. Как вы смотрите на действия современного ОМОНа, в частности, в подавлении акций протеста? Есть ли какие-то моральные принципы среди бойцов, которые сегодня очевидно нарушаются? Как вы сами действовали бы сегодня, окажись на площади в форме во время акции? Это особенно любопытно, если вспомнить конец вашего романа «Санькя».
— Если б я был на площади — я бы выполнял приказы. По крайней мере, до какого-то момента. Вопрос только в моменте. Когда я работал — среди моих товарищей были совершенно забубенные бойцы, которые хотели революции куда сильней, чем большинство нынешних оппозиционеров.
На действия ОМОНа я никак не смотрю. Это их работа. Среди них, конечно, есть полные идиоты. Но идиотов и среди оппозиционеров полно. Я никак не оцениваю никого. Все идет своим чередом. Надеюсь, что если вся наша история покатится куда-то — у моих коллег из ОМОНа хватит ума отойти в сторону… а то их переедет.
— Опять же неизбежно: как вы относитесь к Алексею Навальному, который довольно сильно уже навяз в зубах. Но интересно ваше отношение к национальному вопросу. Ведь взгляды ваши в отношении сегодняшней власти во многом близки, но у одного — «Хватит кормить Кавказ», у другого — несколько командировок в Чечню, чтобы этот самый Кавказ «кормить»…
— Навальный, насколько я знаю его, последовательный и умный парень.
По поводу Кавказа мы никогда не разговаривали. Я считаю, что кормить надо всех, и со всех спрашивать работу. Я человек Империи. Этнический национализм мне глубоко чужд. Однако я отлично отдаю себе отчет, что если не поддерживать собственно русских людей и области, населенные преимущественно русскими — вся эта Империя развалится на части и полетит к чертям.
Вопрос должен звучать иначе. Не «Хватит кормит Кавказ!», а: «Хватит потворствовать национальной коррупции!» Или даже так: «Русские коррупционеры, прекратите покрывать зарвавшиеся национальные диаспоры. А то вас повесят всех вместе».
— Сменим тему. Насколько я понял, трек «Чисто по-пацански» из альбома «Переворот» — это шутка-отсылка к вашему «Пацанскому рассказу». Насколько вообще могут пересекаться литература и музыка? Это принципиально разные творческие регистры? Занятия музыкой не оттягивают энергию от писания текстов?
— Нет, энергию не оттягивают, это разные занятия. Музыка — это вообще отдых и кайф (если речь не идет о концерте — что всегда нервотряска). А литература требует более серьезных энергозатрат. По крайней мере, в моем случае.
Литература и музыка могут пересекаться, но вообще я такой цели не ставлю — это просто случайно затесавшийся в песню кусок из рассказа, вот и все.
— Вас иногда сравнивают с Максимом Горьким. Если бы вы действительно были им, как думаете, эмигрировали ли бы вы окончательно или все-таки любовь к Родине и очарование Советским проектом так же пересилили бы?
— Я бы никуда не уехал. И любовь к Родине, и очарование Советским проектом — все это живо во мне и поныне, несмотря на то, что я уже перестал быть Максимом Горьким.
— Что в современном языке вас раздражает, какие слова, конструкции, манера выражаться? У молодых или в общественно-политическом дискурсе? А что, наоборот, кажется точным и стильным.
— Любое поганое выражение или самое идиотское слово («вас услышали», «стильный», «вам позвонит один человечек», «озвучивать», «тренд», «позитив», упомянутый «дискурс»), помещенное в правильный контекст, может отлично прозвучать. Но вообще я стараюсь их не использовать, к черту всю эту гадость.
— Ну и напоследок — «обязательная программа». Кто из молодых в литературе и музыке вам нравится?
— Совсем молодых ребят, которые появились в литературе или в музыке и убили меня наповал, я пока не знаю.
Я не говорю, что их нет — просто не знаю. Из литературы — мне понравились рассказы Ивана Шипнигова, много ребят появляются с отличными стихами, но потом куда-то пропадают. Последнее мое личное открытие — Никита Вельтищев, он прислал мне подборку стихов, я тут же ее опубликовал в «Новой газете» в Нижнем — это была настоящая сердечная радость.
В музыке — ну, вот мне очень нравится Ричард Пейсмейкер, до такой степени, что я записал с ним пластинку. Я слушаю сейчас исполнителя по имени Рэм Дигга — вообще, он крут, но мы уже тут все взрослые парни, меня утомляет, когда люди ругаются матом как маленькие дети и к тому же стараются делать это погаже. Я не очень понимаю, готовы ли они ставить такие песни своим детям или матерям, или как они будут теми же устами, какими произносили ужасную пошлятину, общаться со своими подругами.
Тем не менее, Дигга далеко пойдет, судя по всему: рифмует он отлично и мыслит нетривиально.
Из последних, прямо скажем, потрясений — опять же рэпер, но уже повзрослее — Типси Тип. Один из любимейших, постоянно на повторе. Тоже, конечно, матерится, но как-то, с позволения сказать, поприличней.
А так — молодые на сегодняшний момент — это вот мы — с одной стороны, Сергей Шаргунов, если говорить о литературе, с другой — «25/17», если говорить о музыке, с третьей Иван Вырыпаев, если говорить о кино.
— Что готовитесь выпустить в ближайшее время?
— Новый роман «Обитель». Пластинку «Патологии» от проекта «Захар Прилепин и Ричард Пейсмейкер». И третий альбом группы «Элефанк», рабочее название «Восемь бесконечных».
— Спасибо, Захар!
Иван Шипнигов

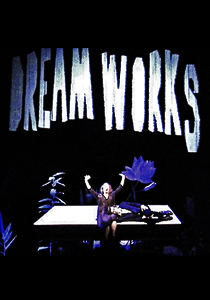



 Восемь классических пьес Максима Александровича. К сожалению, в сборник не попала «Стальова воля», которая была отдельно издана в 1999 году и с тех пор не переиздавалась. Про «Кухню» напомню, что большинство театралов до сих пор считают лучшей режиссерской работой Олега Меньшикова инсценировку заглавной пьесы. А остальные семь можно прочитать совсем не напрягаясь — правда, будет это достаточно обыденно и суховато. Тексты Курочкина не хотят впускать вас в себя, да и вы, скорее всего, не захотите войти. Но, поверьте, десять лет назад знакомство с этим сборником было сродни потере невинности и чтению первого выпуска журнала «ПТЮЧ».
Восемь классических пьес Максима Александровича. К сожалению, в сборник не попала «Стальова воля», которая была отдельно издана в 1999 году и с тех пор не переиздавалась. Про «Кухню» напомню, что большинство театралов до сих пор считают лучшей режиссерской работой Олега Меньшикова инсценировку заглавной пьесы. А остальные семь можно прочитать совсем не напрягаясь — правда, будет это достаточно обыденно и суховато. Тексты Курочкина не хотят впускать вас в себя, да и вы, скорее всего, не захотите войти. Но, поверьте, десять лет назад знакомство с этим сборником было сродни потере невинности и чтению первого выпуска журнала «ПТЮЧ». Фанаты группы «Ундервуд» наверняка вспомнят имя этого драматурга. Ксения Викторовна давно уже стала классиком, все про нее слышали, но практически никто не читал. Театральный режиссер Ольга Субботина ставила свои самые знаменитые спектакли по ее произведениям. Это «Ощущение бороды» и «Яблочный вор» по пьесе «Все мальчишки – дураки». Группа «Ундервуд» специально написала музыку для оформления пьесы, а Мария Голубкина блистала в главной роли. Обе пьесы вы найдете в книжке. Нет «Голой пионерки» — видимо, театр «Современник» не дал права на публикацию. В остальном сборник можно считать «Best of» пьес данного автора. Важно учесть, что Драгунская пишет не «лесенкой», не сценическим письмом, а киноповестью. Любителям покопаться в архивах журнала «Искусство кино» будет очень комфортно читать. Тут вот в чем дело: эти сказки – для взрослых. Герои – литературовед Мария Дербарендикер и предприимчивая девушка Аня Фомина. Их приключения в эпоху становления кремлевского гламура смогут заиграть в вашей голове (потому что лучшие спектакли по Драгунской уже сняты с репертуара), только если вы сами себе позволите роскошь заинтересоваться проблемами тех, кому слегка за сорок пять. А заодно представить, какими они были пятнадцать лет назад.
Фанаты группы «Ундервуд» наверняка вспомнят имя этого драматурга. Ксения Викторовна давно уже стала классиком, все про нее слышали, но практически никто не читал. Театральный режиссер Ольга Субботина ставила свои самые знаменитые спектакли по ее произведениям. Это «Ощущение бороды» и «Яблочный вор» по пьесе «Все мальчишки – дураки». Группа «Ундервуд» специально написала музыку для оформления пьесы, а Мария Голубкина блистала в главной роли. Обе пьесы вы найдете в книжке. Нет «Голой пионерки» — видимо, театр «Современник» не дал права на публикацию. В остальном сборник можно считать «Best of» пьес данного автора. Важно учесть, что Драгунская пишет не «лесенкой», не сценическим письмом, а киноповестью. Любителям покопаться в архивах журнала «Искусство кино» будет очень комфортно читать. Тут вот в чем дело: эти сказки – для взрослых. Герои – литературовед Мария Дербарендикер и предприимчивая девушка Аня Фомина. Их приключения в эпоху становления кремлевского гламура смогут заиграть в вашей голове (потому что лучшие спектакли по Драгунской уже сняты с репертуара), только если вы сами себе позволите роскошь заинтересоваться проблемами тех, кому слегка за сорок пять. А заодно представить, какими они были пятнадцать лет назад. Окрыленные успехом сборника «Паб», Олег и Владимир Пресняковы выпустили роман-поэму «Европа-Азия». Не удивляйтесь, что в подборке представден роман. По стилистике и манере восприятия это и есть настоящая ультрасовременная пьеса. А по их собственному определению, книга – микс из сериала «LOST» и книги «Москва-Петушки». На самом деле это текст-пазл, где куски киносценария, основанного на известной пьесе «Европа-Азия», соседствуют с потешным и восхитительнейшим повествованием. О том, как братья помогали «крутому дядьке» (опять же по определению самих Пресняковых) Ивану Владимировичу Дыховичному снимать многострадальную «черную» комедию. Ой, не запутайтесь. В романе кроме Дыховичного и авторов много персонажей. Конечно, без Сергея Шнурова, Ксении Собчак, Ивана Урганта и Татьяны Лазаревой не обошлось. Самый обаятельный и отрицательный персонаж в книге, фантастический модник и «плейбой», постоянно курящий трубку и разъезжающий на «Порше», не кто иной, как сам режиссер Ваня Дыховичный. Напомню, что в фильме и пьесе сюжет повествует о банде мошенников, имитирующих свадьбу около стелы на границе Европы и Азии (стела установлена под Екатеринбургом, откуда родом братья Пресняковы). Лично я помню, как охотился за этой книгой и когда ее заполучил, то радовался так, будто Пресняковы и Дыховичный – мои близкие родственники. После этого романа они для меня все стали как родные. Это, пожалуй, самая увлекательная книга из всей подборки.
Окрыленные успехом сборника «Паб», Олег и Владимир Пресняковы выпустили роман-поэму «Европа-Азия». Не удивляйтесь, что в подборке представден роман. По стилистике и манере восприятия это и есть настоящая ультрасовременная пьеса. А по их собственному определению, книга – микс из сериала «LOST» и книги «Москва-Петушки». На самом деле это текст-пазл, где куски киносценария, основанного на известной пьесе «Европа-Азия», соседствуют с потешным и восхитительнейшим повествованием. О том, как братья помогали «крутому дядьке» (опять же по определению самих Пресняковых) Ивану Владимировичу Дыховичному снимать многострадальную «черную» комедию. Ой, не запутайтесь. В романе кроме Дыховичного и авторов много персонажей. Конечно, без Сергея Шнурова, Ксении Собчак, Ивана Урганта и Татьяны Лазаревой не обошлось. Самый обаятельный и отрицательный персонаж в книге, фантастический модник и «плейбой», постоянно курящий трубку и разъезжающий на «Порше», не кто иной, как сам режиссер Ваня Дыховичный. Напомню, что в фильме и пьесе сюжет повествует о банде мошенников, имитирующих свадьбу около стелы на границе Европы и Азии (стела установлена под Екатеринбургом, откуда родом братья Пресняковы). Лично я помню, как охотился за этой книгой и когда ее заполучил, то радовался так, будто Пресняковы и Дыховичный – мои близкие родственники. После этого романа они для меня все стали как родные. Это, пожалуй, самая увлекательная книга из всей подборки. Отрывок из сценария для спектакля-открытия Гоголь-центра «00:00» в постановке Серебренникова и три полноценных пьесы. Все это находится под концептуальной, но совсем не шокирующей обложкой. Валерий Валерьевич — открытый гей и в творчестве своем более всего близок к произведениям легендарного драматурга-новатора Евгения Владимировича Харитонова. Но проблема в том, что такими текстами вряд ли уже кого-то удивишь. Они были написаны про определенные события, происходившие с 2007 по 2011 год. Поэтому сейчас эти пьесы читаются непреднамеренно монотонно. Только драматургический отрывок «День», созданный специально для перформанса Кирилла Серебренникова, известной актрисы Лики Руллы и молодых артистов «7 студии», хорошо читается до сих пор. Это текст, написанный в стиле древнегреческого театра. Когда из обрывков слов молодых строителей, работающих днем, проступает удивительно прекрасное будущее (теперь уже настоящее) одного из самых лучших модных театров. Потом все персонажи влюбятся, умрут и по закону «капустнических» юморесок — воскреснут. Те, кто уже знаком с творчеством Печейкина, с нетерпением ждут, когда он выпустит новый сборник, где будут пьесы «Девять» по Михаилу Ромму, «Идиоты» по фон Триеру и пьеса, написанная по дневникам Кафки.
Отрывок из сценария для спектакля-открытия Гоголь-центра «00:00» в постановке Серебренникова и три полноценных пьесы. Все это находится под концептуальной, но совсем не шокирующей обложкой. Валерий Валерьевич — открытый гей и в творчестве своем более всего близок к произведениям легендарного драматурга-новатора Евгения Владимировича Харитонова. Но проблема в том, что такими текстами вряд ли уже кого-то удивишь. Они были написаны про определенные события, происходившие с 2007 по 2011 год. Поэтому сейчас эти пьесы читаются непреднамеренно монотонно. Только драматургический отрывок «День», созданный специально для перформанса Кирилла Серебренникова, известной актрисы Лики Руллы и молодых артистов «7 студии», хорошо читается до сих пор. Это текст, написанный в стиле древнегреческого театра. Когда из обрывков слов молодых строителей, работающих днем, проступает удивительно прекрасное будущее (теперь уже настоящее) одного из самых лучших модных театров. Потом все персонажи влюбятся, умрут и по закону «капустнических» юморесок — воскреснут. Те, кто уже знаком с творчеством Печейкина, с нетерпением ждут, когда он выпустит новый сборник, где будут пьесы «Девять» по Михаилу Ромму, «Идиоты» по фон Триеру и пьеса, написанная по дневникам Кафки. Возможно, для начала знакомства с новой русской драматургией этот сборник идеальная вещь. Как Пауло Коэльо, ставший для студентов середины нулевых годов проводником к прозе Достоевского или Тургенева, так Иван Александрович может помочь увлечься пьесами Алексея Казанцева или Виктора Денисова. Сборник составлен так толково, что комар носу не подточит. Это не просто собрание лучших произведений за 13 лет. Здесь выводится портрет поколения сорокалетних на фоне эпохи. Например, «Пьяные» написаны очень назидательным языком. При столкновении с этим текстом может возникнуть неприятное ощущение, что вас отчитывают за то, чего вы не совершали. «Невыносимо долгие объятия» были специально написаны для берлинского «Дойчез театр». Это чувствуется даже по тому, что в ней представлен апофеоз нынешней фонетики автора, а также бросается в глаза повтор всех сюжетных линий Вырыпаева из «Танца Дели», «U.F.O.» и «Иллюзий». «Июль» актуален до сих пор: публика стабильно делает аншлаги на питерской постановке этой пьесы режиссера Дмитрия Волкострелова. Но, на самом деле, наиболее интересное в книге – это вступительная статья «Что такое пьеса?». В ней Вырыпаев объясняет читателям, зачем издал это все на бумаге, зачем эту книгу читать и — самое главное – как он к этому относится. Очень важно, что в статье он не поучал и не лукавил. Она читается, как самостоятельное произведение. Настоящее украшение для этого собрания лучших вещей.
Возможно, для начала знакомства с новой русской драматургией этот сборник идеальная вещь. Как Пауло Коэльо, ставший для студентов середины нулевых годов проводником к прозе Достоевского или Тургенева, так Иван Александрович может помочь увлечься пьесами Алексея Казанцева или Виктора Денисова. Сборник составлен так толково, что комар носу не подточит. Это не просто собрание лучших произведений за 13 лет. Здесь выводится портрет поколения сорокалетних на фоне эпохи. Например, «Пьяные» написаны очень назидательным языком. При столкновении с этим текстом может возникнуть неприятное ощущение, что вас отчитывают за то, чего вы не совершали. «Невыносимо долгие объятия» были специально написаны для берлинского «Дойчез театр». Это чувствуется даже по тому, что в ней представлен апофеоз нынешней фонетики автора, а также бросается в глаза повтор всех сюжетных линий Вырыпаева из «Танца Дели», «U.F.O.» и «Иллюзий». «Июль» актуален до сих пор: публика стабильно делает аншлаги на питерской постановке этой пьесы режиссера Дмитрия Волкострелова. Но, на самом деле, наиболее интересное в книге – это вступительная статья «Что такое пьеса?». В ней Вырыпаев объясняет читателям, зачем издал это все на бумаге, зачем эту книгу читать и — самое главное – как он к этому относится. Очень важно, что в статье он не поучал и не лукавил. Она читается, как самостоятельное произведение. Настоящее украшение для этого собрания лучших вещей. В этом году исполняется 14 лет с момента гибели Юрия Щекочихина. Большинству он известен как легендарный журналист, освещавший трудности становления подростков 80-х годов и деятельность организованной преступности. Но в этом сборнике, к счастью, нашлось место не только для его знаковых репортажей. В 1982 году он выпустил пьесу «Продам старинную мебель». Это событие проходит практически незамеченным, но заявляет Щекочихина еще и как современного драматурга. Через три года состоялась театральная сенсация. Только что написанная пьеса «Ловушка 46, рост 2» попадает в модный молодежный театр РАМТ. Посвящена она жесточайшему противостоянию двух молодежных футбольных группировок. С грандиозным успехом спектакль идет несколько лет, и залы штурмует армия поклонников. Половина из них – настоящие футбольные ультра-активисты. Скоро это произведение успешно экранизируют под названием «Меня зовут Арлекино». В начале 1989 года Юрий Петрович принесет в театр новую пьесу «Между небом и землей жаворонок вьется» о том, как одиночный молодежный бунт приводит к печальным последствиям. В спектакле звучала живая музыка в исполнении актеров. Спектакль назывался строчкой из романса Глинки, а в конце выходил маленький мальчик и пел «Между небом и землей». В 90-е Щекочихин будет трудно, но кристально честно депутатствовать в Госдуме РФ. А в июле 2003 года он трагически и безвременно нас покинет. Уникальное собрание его пьес и статей должно подтвердить тезис о том, что все новое – это очень хорошо забытое старое.
В этом году исполняется 14 лет с момента гибели Юрия Щекочихина. Большинству он известен как легендарный журналист, освещавший трудности становления подростков 80-х годов и деятельность организованной преступности. Но в этом сборнике, к счастью, нашлось место не только для его знаковых репортажей. В 1982 году он выпустил пьесу «Продам старинную мебель». Это событие проходит практически незамеченным, но заявляет Щекочихина еще и как современного драматурга. Через три года состоялась театральная сенсация. Только что написанная пьеса «Ловушка 46, рост 2» попадает в модный молодежный театр РАМТ. Посвящена она жесточайшему противостоянию двух молодежных футбольных группировок. С грандиозным успехом спектакль идет несколько лет, и залы штурмует армия поклонников. Половина из них – настоящие футбольные ультра-активисты. Скоро это произведение успешно экранизируют под названием «Меня зовут Арлекино». В начале 1989 года Юрий Петрович принесет в театр новую пьесу «Между небом и землей жаворонок вьется» о том, как одиночный молодежный бунт приводит к печальным последствиям. В спектакле звучала живая музыка в исполнении актеров. Спектакль назывался строчкой из романса Глинки, а в конце выходил маленький мальчик и пел «Между небом и землей». В 90-е Щекочихин будет трудно, но кристально честно депутатствовать в Госдуме РФ. А в июле 2003 года он трагически и безвременно нас покинет. Уникальное собрание его пьес и статей должно подтвердить тезис о том, что все новое – это очень хорошо забытое старое.
