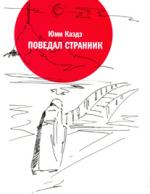Пастушок так часто кричал «Волки! Волки!»,
что волки услышали и пришли.
Наблюдение зоолога
Я мыслю, следовательно, умный.
Спиноза. «Умные мысли»
— Завтра финал по рукопашному бою, — сказала Мари. — Шестой отряд против четвертого.
— Наши победят, — сказала Жанна, соседка по комнате, хмурясь на страницы
«Полицейского вестника».
— А наши — это кто?
— А кто победит, те и наши.
Мари усмехнулась.
— Беспринципная ты.
— А ты как думала, подруга? — Жанна оторвалась от газеты. — В партнеры надо выбирать
победителей, тогда и брак крепкий, и дети здоровые.
— А вот я не согласна. Все люди делятся…
— Правильней будет сказать: «Все люди размножаются». Мы же не амебы.
Мари замолчала и покраснела. Жанна покачала головой:
— И как тебя в полицейские занесло? — Она вернулась к «Вестнику». — Тебе нужно было в
ясли, воспитательницей…
Мари и сама не совсем понимала, как ее занесло сначала в пятый отряд, а потом в
подразделение 11 Высшей Школы Полиции. Другое дело Жанна, она же Командирша. Для этой
решительной девушки не было ничего важнее, чем неукоснительное выполнение законов и
постановлений правительства всеми-подряд-без-исключения-вас-это-тоже-касается-и-нечего-
мне-тут-глазки-строить!
Мари же в Школе получила кличку Аленький Цветочек. Цветочек — за красоту, а Аленький —
за свойство заливаться краской от самой невинной, с точки зрения будущих полицейских,
шутки.
А когда Мари краснела, она начинала злиться, что стало второй причиной выбора
профессии. Первой причиной было любопытство — очень хотелось посмотреть на людей,
которые добровольно собираются попасть в полицию, да еще и в качестве полицейских. И когда
пожилой капрал в приемной очень добрым голосом — тем самым специальным голосом,
которым полицейские общаются с заблудившимися детьми — спросил, что она здесь делает,
Мари густо покраснела, разозлилась и записалась в стражи порядка.
Полицейская школа оказалась вполне пристойным местом. Науку «ловить и защищать»
Мари усваивала без труда, все нормативы по задержанию условных правонарушителей
выполняла на отлично, а за первое же учебное патрулирование получила благодарность с
занесением.
Хотя случай тот был совсем не учебным, да и к нормативам имел весьма отдаленное
отношение. Ну какие могут быть нормативы, если навстречу прет толпа обкуренных
экологистов, а у тебя из оружия только свисток и верная подруга?
Мари и Жанна успели зашвырнуть в реку форменные фуражки и кители, пока их не
заметили борцы за чистое небо. После чего смешались с толпой и завопили:
— Купаться! Хотим купаться!
— Купаться! — подхватил еще десяток голосов, и колонна, побросав плакаты «Лапы прочь
от озона!», полезла в воду.
Напрасно лидеры бегали по набережной и призывали к экологической сознательности.
Чтобы не мешали народу отдыхать, пыл вождей радостно охладили водой из реки. Когда
подоспел усиленный наряд полиции, большая часть демонстрантов замерзла, протрезвела и
разбрелась кто куда.
На торжественном занесении благодарности начальник курса решил живописать
подробности подвига курсанток:
— …И тогда храбрые девушки поснимали с себя то, в чем должны были находиться по
уставу, — торжественно громыхал старший майор, — и своими, так сказать… э-э-э…
находчивыми действиями направили мысли правонарушителей совсем по другому руслу…
Курсант Мари! Что у вас с лицом? Не полицейский, а Аленький Цветочек… Что за хиханьки в
строю?! Не полицейские, а стадо чудовищ!
Прозвище к Мари приклеилось намертво и, несмотря на все успехи в учебе и бою, так за
ней и осталось. Но именно Аленький Цветочек в числе немногих второкурсников прошла отбор
в подразделение 11.
Неделю назад, сразу после завтрака, отрядный лейтенант построил курсантов на плацу и
тревожно понюхал воздух. Надо отметить, что нос был самой выдающейся частью отрядного
лейтенанта, можно сказать, неотъемлемой его частью, которая с успехом заменяла хозяину
остальные органы чувств. Спрятанные в спальном корпусе алкогольные напитки лейтенант
находил на спор с завязанными глазами. А иногда — и не на спор, а по долгу службы.
Тревожное нюханье не осталось без внимания курсантов. Пятый отряд уже знал, что
отрядный обладает уникальным нюхом не только на обычные запахи, но и на неприятности.
Поэтому курсанты приняли максимально молодецкий вид. И не зря — через минуту на плац
вышел полковник, начальник Школы. Руки он держал за спиной.
— Смирно! — скомандовал лейтенант и отбежал в сторону.
Полковник кивнул и сказал:
— Что должен уметь хороший полицейский? Хороший полицейский должен уметь
эффективно действовать в нестандартных ситуациях. Например, таких.
После чего достал из-за спины автомат и открыл огонь по строю.
Кое-кто так и остался стоять смирно. Беднягам здорово досталось: полковник стрелял резиновыми пулями. Многие бросились на землю, но зарыться в бетонный плац не смогли.
Тест на нестандартность прошли только Мари и Жанна. Они метнулись за спину
остолбеневшему здоровяку Эдуарду (первая же пуля попала Эдуарду в лоб), приподняли его за
плотно пригнанное обмундирование и с криком, который по громкости соответствовал «Ура!»,
протаранили полковника.
Когда начальник Школы на носилках отбыл в санчасть, лейтенант сказал:
— Что ж, весьма нестандартно. Закрыть амбразуру грудью раненого товарища…
— Товарищ был уже убит! — отрапортовала Жанна.
— Прямое попадание в голову, ничего не поделаешь, — добавила Мари и покраснела.
Лейтенант тоскливо посмотрел на небо. Его переводили из пятого отряда в подразделение
11с перспективой и дальше командовать Жанной и Мари. Хотя грустил он по другому поводу:
подразделение было секретным и для конспирации его фамилию официально сокращали до
одной буквы — О. Теперь лейтенант скучал по прежней фамилии, которая состояла из
тринадцати букв и начиналась с «3».
Так началась учеба в подразделении 11, или «две дубины», как называли его завистливые
однокурсники. Впрочем, на обучение полицейских этот процесс походил так же мало, как
выщипывание бровей — на прополку кукурузы.
Перед первым занятием будущие специалисты по нестандартным ситуациям Мари и
Жанна грамотно выбрали места в аудитории — у задней стены рядом с окном — и обеспечили
себя подсобными предметами в количестве, достаточном для отражения любой нестандартной
напасти, будь то атака террористов или нашествие павианов.
Напасть оказалась еще более нестандартной. В аудиторию впрыгнул всклокоченный
старичок, который с порога понес удивительную ахинею об остатках древних рас, что до сих пор
живут среди людей, отводя им глаза мороками.
— Каждому, кто обезвредит и приведет одного древнего, — кричал лектор, — зачет
автоматом! За двух древних — два зачета! За трех — три!
Мари и Жанна уже тихо обсуждали, получат ли они зачет, если бережно обезвредят
старичка и приведут его в медицинское учреждение. Но тут параноидальная лекция
закончилась, и эксперта по древним расам сменила пышная дама в черном с глазами навыкате.
— Здравствуйте, дети, — сказала глазастая дама. — Я научу вас, как правильно задавать
вопросы духам умерших…
Затем пришел, точнее, с трудом пролез в дверь человек, поведавший о глобальном
похолодании, в котором выживут лишь люди со стратегическим запасом подкожного жира.
Потом появился лысый очкарик с колпачком из фольги на голове и рассказом о
психоделическом оружии вражеских спецслужб, которое заставляет людей поступать наперекор
своим желаниям. «Например, у меня, — сказал очкарик, — нет никакого желания носить этот
дурацкий колпачок». Следом в аудиторию проник обвешанный связками чеснока и укропа худой
тип в черной коже, который первым делом потребовал, чтобы все присутствующие отразились в
зеркале…
Лекторы менялись каждый час, и с каждым часом подразделению 11 открывали глаза на
все более поразительные факты. Они узнали об инопланетянах, вселяющихся в головы высших
руководителей с целью подготовить вторжение в головы руководителей среднего звена; о
вампирах, по поддельным рецептам скупающих в аптеках гематоген; о параллельных
Вселенных, что то и дело пересекаются; о Чужих, которые объединились с Иными против Не
Местных…
Будь на месте отборных курсантов… ну, скажем, курсанты неотборные, они бы извелись,
извертелись и изрисовали все парты. Но 25 боевых единиц подразделения 11 держались,
стойко внимая безумным лекторам и терпеливо ожидая, когда придет лейтенант О. и скажет, к
чему все это.
Единственным большим плюсом и дополнительным поводом для зависти других групп
стало полное отсутствие в подразделении 11 марш-бросков по пересеченной местности и
ночных учебных тревог. Впрочем, за неделю сидения на лекциях большой плюс превратился в
маленький плюсик, скорее даже крестик — курсанты соскучились по активным действиям.
— Сил моих больше нет! — сказала Жанна и швырнула «Полицейский вестник» в угол.
Потом встала, подняла газету и аккуратно сложила на тумбочке. — Хоть бы тревогу какую
объявили.
— Действительно, — поддакнула Мари. — Раз уж мы все равно не спим.
— Эгоистка, — лениво произнесла Жанна, стягивая рубашку. — А почему мы, собственно, не спим? Час ночи. Все хорошие девочки уже спят.
— А плохие что, бодрствуют?
— Все девочки хорошие, — зевнула Командирша, забираясь в постель. — Это мальчики
плохие. Вот пусть они и бодрствуют…
«Я сплю… я сплю… я сплю…»
Альберт очень старается. Он считает до сорока, читает наизусть стих про серого
волчка, даже пытается себя заколдовать. Ничего не помогает.
Альберт набирается храбрости, высовывается из-под одеяла и быстро осматривает
комнату. За последний час он научился проверять комнату правильно. Нельзя вглядываться
в черные силуэты, надо просто вспомнить, что на их месте было днем.
«Это не вампир, это мой халат на стуле. Это не паук, это люстра. Это не робот-
убийца, это шкаф, и внутри у него ничего нет, только моя одежда…»
Дверь шкафа скрипит и приоткрывается. Альберт захлопывает глаза.
«Я сплю!»
Темнота под веками оказывается не черной. Там движутся лохматые бурые пятна,
часто дергаясь в такт грохочущему сердцу. В ушах звенит, но сквозь грохот и звон мальчик
слышит, как с тихим шорохом раздвигается одежда в шкафу.
«Я сплю, я сплю, я сплю!»
— Подразделение 11, подъем! Тревога!
Мари и Жанна давно научились одеваться на бегу — пока не начались нестандартные
лекции, курсанты только так и одевались. Они даже успели поболтать о долгожданной тревоге.
— Помяни мое слово, — говорила Жанна сквозь зубы, в которых она держала портупею и
носок, — сейчас нам объявят, что один из лекторов — серийный убийца, и нам надо за 45 минут
его выследить и взять с поличным.
Мари только хмыкнула, потому что ее рот был набит куда плотнее: прорезиненная беретка,
прорезиненный плащ и резиновая дубинка. Иначе она бы вслух усомнилась в таком развитии
событий — оно было предсказуемым. Что нестандартного в серийном убийце? Обычное, повседневное дело.
На плацу курсантов подразделения 11 ждал полковник — весь в черном, только
загипсованная рука ярко белела под лучами прожекторов.
— Все собрались? — как-то не по-боевому поприветствовал он строй. — Хорошо. Это не
учебная тревога.
Кто-то во второй шеренге зевнул, не раскрывая рта. Полковник нахмурился.
— Вижу, вы мне не очень верите. Вы думаете, если бы это была учебная тревога, я бы все
равно сказал, что она не учебная. Даже не знаю, как вас переубедить. И не стану. Просто буду
рад на утреннем построении увидеть хотя бы человек десять.
Взвыли авиационные двигатели. Прожекторы метнулись по плацу и осветили военный
транспортный вертолет. Огромные лопасти завращались, рубя лучи и темноту в тревожный
коктейль «Щасчтотобудет!».
— Погрузка! — гаркнул лейтенант О.
Летели долго, снижались, поднимались, закладывали виражи. Иллюминаторы в десантном
отсеке были задраены, и Мари попыталась по реакции вестибулярного аппарата угадать
маршрут.
— Круг сделали! — прокричала она Жанне через двадцать минут.
— Что?! — проревела в ответ Командирша, лишь немного проиграв по громкости реву
двигателей.
— Я говорю, круг сделали! — Мари изобразила руками круг, но тут вертолет тряхнуло, и
курсантке пришлось для устойчивости махнуть руками, как перелетной птице.
— Да! — закивала Жанна. — Далеко летим! Границу уже точно пересекли! За границу летим,
говорю!
Однако в месте высадки заграницы не оказалось. Там вообще не оказалось ничего, кроме
бетонного круга в голом поле и пяти микроавтобусов с задраенными окнами. Пилот вертолета
пять раз показал растопыренную пятерню. Двадцать пять курсантов сноровисто разбились на
пять групп по пять человек и разбежались по автобусам.
— Так-то лучше, — проворчала Жанна, оглядывая свою пятерку. — Терпеть не могу
геройствовать в толпе, вечно кто-нибудь вылезет вперед тебя.
— Пять человек тоже, конечно, многовато… — сказала она после получаса подъемов,
спусков и виражей.
Микроавтобус остановился, и выскочившие наружу курсанты увидели пять мотоциклов с
колясками. Мари и не знала, что такие еще сохранились. За рулем каждого мотоцикла сидел
офицер, а пологи колясок были заботливо откинуты. Желание Жанны исполнилось с лихвой —
геройствовать курсантам предстояло в одиночку.
Мотоциклы заурчали и разъехались во все пять сторон света. Мари повез лейтенант О.
«Интересно, — думала курсантка, устраиваясь в коляске поудобней, — лейтенант на
мотоцикле вертолет догнал, а потом автобус? Надо же, какой натренированный. И даже не
запыхался…»
Альберт почти не дышит. Его тело затекло. Не одеревенели только веки, они упругие
и резиновые, и все время норовят распахнуться.
Мальчику приходится сдерживать не только веки. Ему очень хочется в туалет. Но он
будет лежать неподвижно до утра, когда Зубастый человек уйдет.
Потому что пока Зубастый человек не уходит. Сидит в шкафу и смотрит на него.
Зубастый человек хочет убедиться, что плохой, непослушный, капризный мальчик не спит.
Что он — законная добыча Зубастого человека.
Альберт уверен, что выдержит. Он не уверен, что выдержит весь. Альберт уже готов
сходить в туалет прямо в постели, но боится, что тогда Зубастый человек его раскусит.
То есть не его, а его хитрость. Но потом он раскусит и самого Альберта.
Альберт успеет закричать, но мама не успеет прибежать.
Лейтенант О. заглушил мотор, и мотоцикл тихо подкатил к ограде небольшого особняка.
— Итак, Мари. Инструктаж будет краток. Ты не знаешь, зачем тебя сюда привезли, не
знаешь, где ты, не знаешь, что тебе предстоит сделать…
— Меня привезли сюда для демонстрации эффективных действий в нестандартной
ситуации, разве нет?
— Ну, об этом догадаться несложно, — сказал лейтенант после паузы. — Но ты не знаешь,
где ты, не знаешь, что тебе предстоит сделать…
— Я знаю, где я. Это дачный поселок, что с краю соснового леса. А наша школа с другого
краю, в четырех километрах отсюда. Мы мимо нее недавно проехали.
— Вот вам и режим секретности, — сказал О. кому-то невидимому. — Тьфу. Ну, по крайней
мере, ты не знаешь, что тебе предстоит сделать…
Он с подозрением посмотрел на Мари. Та немного подумала и помотала головой. У нее
были предположения, но она решила не расстраивать командира. Все-таки человек готовился
провести инструктаж, слова придумывал.
— Ну хоть что-то… — сказал лейтенант и водрузил на нос бинокль. — Твоя цель — комната на
втором этаже, окно — крайнее слева. В комнате зафиксирована опасность для жизни
гражданского лица. Твоя задача — проникнуть в дом, устранить опасность и вернуться.
Гражданские лица, находящиеся в других помещениях дома, тебя заметить не должны. Полная
скрытность. Ты меня поняла? Мари? Ты где?
Покрутившись, лейтенант О. присел на коляску и достал специальные бездымные и
непахнущие сигареты без никотина.
— Интересно, — сказал он, — она услышала про полную скрытность или скрытно смылась, не
дослушав?
О. понюхал спецсигарету для спецопераций и поднял брови.
В комнату Мари проникла незаметно не только для гражданского населения, но и для себя
самой. Только что стояла под окном, задумалась, хлоп — и уже в спальне, прижимается спиной к
стене. «Нельзя вот так, бездумно, механически относиться к работе!» — отругала себя девушка.
Она уже хотела выбраться из комнаты и вернуться в нее осознанно, но решила сначала
выполнить задание.
Первым делом следовало определить местонахождение гражданского лица. У
гражданского лица должны быть гражданские рот и нос, через которые лицо дышит. Мари
затаила дыхание и прислушалась. Мари умела задерживать дыхание на четыре минуты даже
во время разговора, но тут это умение не помогло. В спальне никто не дышал.
Зато через четыре минуты глаза полностью привыкли к темноте, и Мари разглядела стол,
шкаф с приоткрытой дверцей, стул, кровать и лежащего на ней ребенка лет четырех-шести.
Пола мужского-женского. Скорее мужского. Похоже, мальчик спал, хотя нет, не спал — когда
спят, то не стараются дышать так бесшумно.
«Ребенок — гражданское лицо. Его нужно защитить от опасности. Или наоборот?»
Мари не испытывала иллюзий в отношении маленьких детей, представлявших немалую
опасность для других гражданских лиц. Но поскольку других гражданских лиц в комнате не
находилось, видимо в данном случае защищать следовало именно мальчика. Оставался
вопрос, от чего. Комната выглядела настолько безопасной, насколько вообще может быть
безопасной детская комната.
«Утечка газа? Самовозгорание обоев? Обрушение потолка? Проваливание пола? Кусачие
насекомые? Ядовитые змеи? Отравленные простыни? Подушка-людоед?..»
Мари с некоторым усилием остановилась. Она знала, что воображение у нее о-го-го, но
будущему эксперту по нестандартным ситуациям не пристало заниматься домыслами. Ей
пристало действовать по ситуации, однако ситуация — гражданское лицо пяти лет, которое
притворяется, что спит — никаких действий не предполагала. Значит, нужно ждать.
«Впрочем, — подумала девушка, — ждать в такой ситуации как раз и будет стандартным
решением. Может, просто подойти к ребенку и выяснить, в чем дело? Только как его при этом
не напугать? А! Лучший способ не напугать — это удивить».
— Динь-динь, — громким шепотом сказала она. — Вредную фею вызывали?
Должно быть, мальчик удивился, поскольку повернул голову в ее сторону. Но глаз не
открыл.
— Мама? — еле слышно спросил он. — Ты не мама… Ты кто?
— Курсант Мари! — доложила Мари. — Подразделение 11 Высшей Школы Полиции!
Эпиграфы из книг «Здесь вам не причинят никакого вреда» и «Сестрички и другие чудовища»:
Ночью все кошки страшные.
Конфуций
Не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Родина не любит такие вопросы.
Правильная патриотическая присказка
Главное — произвести убийственное первое впечатление.
М. Горгона. «Неотразимая»
Многие вещи кажутся не такими, какими они кажутся на самом деле.
Кажется, Аристотель
Причина хаоса — бессистемные попытки навести порядок.
А. Азимов. «Ты, робот!»
Пришел, увидел, побежал, рассказал.
Брут‐младший «Избранные докладные записки»
Как кукукнется, так и кукарекнется.
Русская народная глупость
Лучший отдых — смена деятельности на бездеятельность.
Из рекламного буклета
Первым на ловца обычно бежит не зверь, а тот, за кем зверь гонится.
«Техника безопасности на охоте»
Да пребудет с тобой Сила! Ума не надо.
Полный текст «Прощания джедая»