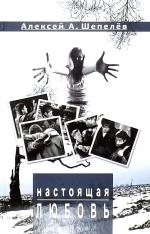- Стюарт Исакофф. Громкая история фортепиано. От Моцарта до современного джаза со всеми остановками. — Москва: АСТ: CORPUS, 2014. — 480 с.
Громкая история фортепиано
От Моцарта до современного джаза со всеми остановками
Глава 1
На пересечении традиций
Даже когда его уже толком не слушалось собственное тело, Оскар Питерсон (1925–2007) все равно считал фортепиано чем-то вроде спасательного круга. Главный спутник жизни, инструмент будоражил его юношеские мечты, гарантировал ему место в учебниках музыкальной истории, помогал в борьбе за расовое равноправие. Теперь, в возрасте 81 года, он, конечно, уже выглядел измученным. На сцену нью-йоркского клуба Birdland Питерсон выкатился в инвалидном кресле, после чего с видимым трудом перенес свою массивную фигуру на фортепианный стульчик — инсульт почти парализовал его ноги и левую руку.
Однако, как только клавиатура рояля оказалась в досягаемости — даже еще не усевшись удобно перед инструментом, — Питерсон взмахнул правой рукой и взял пригоршню нот; по этому сигналу басист, барабанщик и гитарист заиграли первую композицию. И зазвучал тот самый, сразу узнаваемый звук. Питерсон — этот всамделишный музыкальный колосс, опирающийся на великие традиции прошлого, но по-своему их преломляющий, — по-прежнему знал, как его достичь.
На протяжении многих десятилетий исполнительское мастерство и музыкальное чутье Питерсона вызывали у остальных такой же благоговейный трепет, какой сам музыкант испытывал по отношению к своему кумиру, покойному Арту Татуму. Однажды он сравнил Татума со львом: зверем, которого ты боишься до смерти и тем не менее не можешь избежать соблазна подойти поближе, чтобы услышать, как он рычит (сходные чувства Татум вызывал и у легенд академической музыки вроде Сергея Рахманинова и Владимира Горовица, однажды сходивших на его концерт). Из-за этого вернуться после болезни к полноценной концертной деятельности Питерсону было непросто.
Стиль Питерсона всегда характеризовался скоростными, изящными, несколько «приблюзованными» мелодическими линиями, которые разбегались по клавиатуре длинными хитросплетенными фразами, образуя своего рода эпическое повествование.
С другой стороны, не менее важен для него был и резкий, пылкий, отрывистый ритм. Качества, за которые его ценили, — непринужденная гибкость исполнения и четкость часового механизма — не были просто особенностями его манеры, они лежали в основе всей его творческой выразительности. Для их адекватного воплощения требовалась помимо прочего очень хорошая физическая форма.
Тем вечером 2006 года на одном из концертов тура, который окажется для Питерсона последним, порой были заметны проблески величия, не сломленного возрастом и болезнью. Но было понятно, каких усилий ему все это стоит. Впрочем, это не так уж и важно: в конце концов, игра на фортепиано была для него занятием столь же естественным, как дыхание или еда. «Это мое лекарство», — сказал Питерсон после концерта, кивнув в сторону рояля, и легкая улыбка тронула его почти неподвижные губы. Но на самом деле в ярчайшие моменты его выступления гигантский блестящий черный «Безендорфер»1, занимавший едва ли не всю сцену в Birdland, пожалуй, означал нечто еще большее — не только спасательный круг для одного пианиста, но центр вселенной для всех собравшихся.
Подобную роль фортепиано играло последние 300 с лишним лет, заманивая меломанов то в парижские салоны послушать меланхоличные шопеновские импровизации, то в венские концертные залы оценить яростные, разрывающие струны экзерсисы Бетховена. Оно было в центре внимания на гарлемских концертах-квартирниках, где лабухи что есть силы колотили кулаками по клавишам из слоновой кости, стремясь перещеголять друг друга, и оно же дарило утешение одиноким старателям во время калифорнийской золотой лихорадки, когда блудный европейский виртуоз Анри Герц играл свои вариации на тему Oh Susannah. Фортепиано покорило даже сибирских крестьян, не слышавших ни единой классической ноты, пока русский маэстро Святослав Рихтер не приехал с гастролями в этот суровый край. И оно по-прежнему приводит в восторг толпы слушателей в концертных залах, клубах и на стадионах по всему миру.
Но фортепиано не просто инструмент. Как говорил Оливер Уэнделл Холмс, это «чудесный ящик», внутри которого не только струны с молоточками, но и надежды, желания и разочарования. Его звук переменчив, как человеческое настроение: фортепиано в равной степени могло быть атрибутом рафинированного викторианского дома и грязного, убогого новоорлеанского борделя. Оцените разброс чувств — от эйфории до тревоги и даже ужаса, — которые пианист испытывает в процессе освоения инструмента. Вот как описывала это нобелевский лауреат Эльфрида Елинек в своем романе «Пианистка»: «Она собирается со всеми силами, напрягает крылья и бросается вперед, прямо на клавиши, которые стремительно несутся ей навстречу, как земля летит навстречу терпящему катастрофу самолету. Те ноты, которые она не в состоянии взять с первого захода, она просто пропускает. Эта утонченная месте ее ничего не смыслящим в музыке мучительницам вызывает в ней слегка щекочущее удовлетворение»2.
О жестокости фортепиано. Петр Андершевский
Когда я играю с оркестром, я часто думаю, что никогда больше не буду участвовать в подобном концерте. Слишком много творческих компромиссов! Нет уж, отныне — только сольные выступления. Когда я сталкиваюсь с одиночеством сольных концертов, с героизмом, которого требует этот жанр, и с жестокостью, которую он подразумевает, я думаю, что никогда больше не буду участвовать в подобном. Нет уж, отныне — только записи.
Когда я записываюсь, а потом переслушиваю собственные записи и чувствую, что мог сыграть лучше и что все здесь было против меня — фортепиано, микрофон, даже собственное ощущение свободы, — я думаю: никогда больше не буду записываться. Это самое жестокое. Честно говоря, величайший соблазн — бросить все, лечь навзничь и слушать биение собственного сердца, пока оно наконец не затихнет…
И тем не менее иногда мне совсем не хочется играть, но, взяв последний аккорд, я осознаю: что-то только что родилось. Что-то, находящееся за пределами моего понимания. Как будто это зал вместе со мной что-то создал. Такова жизнь. Отдавая нечто, ты всегда получаешь что-то взамен.
Из фильма Брюно Монсенжона
«Петр Андершевский: беспокойный странник».Как бы то ни было, фортепиано обладает почти мистической силой притяжения, вырабатывая у ценителей его звучания пожизненную зависимость. Это колдовство поистине необъяснимо. Даже технические работники, обслуживающие инструмент, порой кажутся приверженцами какого-то таинственного культа. «Из настройщиков получаются прекрасные мужья, — утверждает персонаж романа Дэниела Мейсона „Настройщик“. — Настройщик умеет слушать, и его прикосновения нежнее, чем у пианиста: только настройщик знает, что у пианино внутри»3.
А внутри у пианино чудо инженерной мысли: конструкция из дерева и чугуна, молоточков и стержней общим весом почти в 1000 фунтов (каждая струна при этом может выдержать вес в 22 тонны — эквивалент пары десятков автомобилей среднего размера), и эта конструкция по велению музыканта шепчет и поет, кричит и бормочет. Звуки фортепиано покрывают весь оркестровый диапазон от самого нижнего до самого верхнего регистра. Оно удивительным образом подходит произведениям любого стиля и любой эпохи — барочным фугам, романтическим фантазиям, импрессионистским скетчам, церковным гимнам, латино-американским монтунос4, джазовым ритмам и рок-н-ролльным риффам. Всю эту музыку фортепиано присваивает себе.
Чудо фортепиано. Менахем Пресслер
Университет Индианы, в котором я преподаю, недавно попросил меня подобрать ему новое фортепиано, и я нашел экземпляр, показавшийся мне во всех отношениях прекрасным. Вообще я много раз занимался чем-то подобным, и всегда некоторые коллеги оставались недовольны: говорили, например, «звук недостаточно яркий», или «для камерной музыки это не подходит», или «не годится для сольного выступления». Это как когда ты находишь себе спутницу жизни, а кто-то говорит: «Ну нет, я бы ни за что на ней не женился». Но в этот раз мне, кажется, повезло найти настоящую Мэрилин Монро среди фортепиано — этот инструмент всем пришелся по душе.
На следующий день я играл на нем шубертовскую сонату ре-бемоль, и фортепиано буквально пело, как будто у него была живая душа. Это было поздно вечером, я устал, но все равно не мог не испытывать невероятное счастье от того, что имею возможность играть на таком инструменте. Вот ведь как бывает — ты испытываешь воодушевление, вдохновение, даже ликование, и все благодаря предмету заводского производства! Жизнь — это не только то, что мы видим.
В Birdland Оскар Питерсон еще раз продемонстрировал, какой несокрушимой силой обладает этот инструмент. К концу выступления публика стоя хлопала и свистела. Аудитория сознавала, что это был совершенно особенный момент — высшая точка карьеры блестящего артиста и, возможно, вообще последняя возможность живьем оценить неповторимый питерсоновский стиль, в котором сошлись воедино самые разнообразные фортепианные традиции. В его творчестве хватило места для всего на свете.
Свою ослепительную исполнительскую технику Питерсон почерпнул из европейской классической традиции, которую впитал в детстве, в родной Канаде, на занятиях сначала со своей сестрой Дейзи, затем с местным пианистом Луи Хупером и, наконец, с венгерским учителем Полом де Марки. К обучению Питерсон относился очень серьезно — он сам рассказывал, что занимался иногда по 18 часов, «пока мама силой не стаскивала меня со стула». Де Марки, который учился в Будапеште у Иштвана Томана, а тот в свою очередь был учеником великого Ференца Листа, фортепианного титана эпохи и одного из основателей всей современной техники игры, был для Питерсона правильным выбором.
Феноменальная листовская легкость, беглость игры, патентованные скоростные пассажи, целые потоки двойных нот, а также быстрое чередование рук на клавиатуре (прием, по его собственным словам, позаимствованный у И. С. Баха), — все это производило такое впечатление, что Генрих Гейне в 1844-м назвал композитора «Аттилой, Божьим бичом». В самом деле, утверждал поэт, остается только пожалеть фортепиано, «которые трепетали при одной вести о его прибытии, а в настоящую минуту снова дрожат, истекают кровью и визжат под его пальцами, так что за них можно было бы вступиться Обществу покровительства животных»5. Исполнительские трюки Листа предвосхитили фортепианные подвиги Арта Татума, услышав которого впервые Питерсон был столь ошарашен, что в тот же миг едва не принял решение навсегда распрощаться с игрой на инструменте. «Я до сих пор, когда слышу его записи, думаю точно так же», — признался он тем вечером в Birdland.
Де Марки воспитывал Питерсона именно в этой традиции — с подачи учителя пианист освоил многие композиции, которые впоследствии станут хитами его репертуара. Например, коварные, сложнейшие шопеновские этюды или «масштабные, богатые, мягкие аккорды» Дебюсси. «Оскар — наш Лист, а Билл Эванс — наш Шопен», — говорил композитор Лало Шифрин, ссылаясь на стереотипное представление о том, что Лист завоевал фортепиано, а Шопен соблазнил его.
На самом деле это соответствовало действительности лишь отчасти. Мечтательную, импрессионистскую музыку Эванса можно сравнить с приглушенной звуковой поэзией Шопена, игра которого, по свидетельствам очевидцев, обычно была не громче человеческого шепота или в крайнем случае тихого бормотания. Однако затейливые мелодии Питерсона тоже во многом наследовали Шопену и его мелодическому гению. Как писал критик Джеймс Ханекер, шопеновские «асимметрично восходящие и нисходящие каскады нот неизменно приводят новичков в ужас». Пол де Марки заставлял пианиста сосредоточиться на самой важной особенности музыки Шопена. «Я не слышу, как поет мелодия, — говорил он своему ученику, — она слишком отрывистая. Сделай, чтобы она пела». Таким образом, произведения прославленных академических композиторов, каждый из которых, кстати, был и замечательным импровизатором, для Питерсона были своего рода тренировочной площадкой.
Глубокая погруженность музыканта в классическую традицию сделала его объектом насмешек джазовой богемы. Критик Леонард Фезер под псевдонимом «профессор С. Розентвиг Макзигель» опубликовал сатирическую статью о технически блестящем пианисте Питере Оскарсоне, который озадачил других музыкантов тем, что сыграл на концерте «весьма запутанную интерлюдию, а потом набор кадрилей и франко-канадских народных песен». Однако занятия с де Марки, несомненно, подготовили почву для тех творческих успехов, которых Питерсону вскоре суждено было добиться.Впрочем, несмотря на академический бэкграунд, де Марки также приветствовал знакомство пианиста с джазовой традицией. «Мистер де Марки был замечательным пианистом и учителем, — вспоминал Питерсон. — Больше всего мне в нем нравилась незашоренность. Он прекрасно играл классику, но иногда я приходил к нему на урок — а он сидит и слушает джазовые пластинки» — например, Тедди Уилсона, Нэта Кинга Коула и Дюка Эллингтона. «Их игра стала фундаментом для моей собственной», — говорил он.
Питерсон прославился в одночасье, когда продюсер Норман Гранц, оказавшийся в 1949 году в Канаде, услышал его по радио и вскоре выбил музыканту ангажемент на концерт «Джаз в филармонии» в «Карнеги-холле». Выступление было заявлено как сюрприз, и, как докладывал Майк Левин в журнале DownBeat, на сцену Питерсон вышел лишь после того, как все «замерли в ожидании». В итоге, согласно Левину, «он распугал многих местных любимцев, играя боповые темы левой рукой… Причем, если звездам бопа, даже когда они придумывают интересную идею, приходится попотеть, чтобы ее воплотить, Питерсон делает это мгновенно и с сокрушительной мощью». Вспоминая о том времени, пианист признавался, что заранее решил для себя: единственным способом привлечь внимание будет «своей игрой напугать всех до смерти». Так он и поступил, и это упрочило их связь с Гранцем. Вместе они поехали в турне по континенту, собирая по ходу все больше и больше публики, даже несмотря на вездесущие расовые предрассудки.
Американский дебют подправил Питерсону репутацию. Раньше — с тех самых пор, как он в 14 лет выиграл любительский конкурс буги-вуги, — его считали не более чем мастером соответствующей ритмичной, «леворукой» техники и называли «смуглым буги-вуги-террористом», переиначивая похожее прозвище боксера Джо Луиса. «Это была идея фирмы RCA Victor, а вовсе не моя, — с раздражением рассказывал пианист. — Они настояли на том, что я должен играть буги-вуги. А что касается клички, которой они меня наградили, об этом я вообще предпочитаю не вспоминать!»
1 Известная фирма по производству роялей.
2 Пер. А. Белобратова.
3 Пер. М. Кульневой.
4 Разновидность латиноамериканской музыки, подробнее см. главу 9.
5 Цит. по: Петрушин В. И. Музыкальная психология.
Лауреатом Премии Белкина 2014 года стала Татьяна Толстая
Повесть «Легкие миры», впервые опубликованная в журнале «Сноб», была высоко оценена жюри премии. Об этом сегодня сообщили на телеканале «Культура».
В число пятерых финалистов, помимо Татьяны Толстой, также вошли писатели Илья Бояшов («Кокон»), Юрий Буйда («Яд и мед»), Денис Драгунский («Архитектор и монах») и Максим Осипов («Кейп-Код»).
Определяли победителя члены жюри этого года: режиссер Вадим Абдрашитов, директор Гослитмузея Дмитрий Бак, историк и писатель Сергей Беляков, поэт и телеведущий Игорь Волгин под председательством писателя Александра Кабакова. Церемония вручения Премии Белкина состоялась в московском Музее Пушкина на Пречистенке.
Алексей Моторов. Преступление доктора Паровозова
- Алексей Моторов. Преступление доктора Паровозова. — M.: Corpus, 2014. — 544 c.
Прямой эфир
Два танка выкатились на середину моста
и там затормозили, качнувшись и клюнув носом, словно деревянные лошадки. Не мешкая, обе башни начали разворачиваться влево к огромному светлому зданию, потом замерли, как бы
принюхиваясь своими орудийными стволами. Картинка была нечеткой, мешал утренний туман, впрочем, нет, не туман, там что-то горело впереди, заволакивая перспективу. Вдруг танки беззвучно дернулись, выплюнув каждый серое облачко дыма, и тут же
на стене Белого дома распустились цветки разрывов.Д-У-У-У-Х-Х-Ф-Ф-Ф!!! — донеслось через пару
секунд со стороны Нескучного сада. И сразу злым
двойным ударом в мембрану оконного стекла: ТУ-ДУМ-ТУДУМ!!!Бутылки с полиглюкином на средней полке шкафа задрожали мелкой дрожью, сбившись в кучу и стукаясь друг о друга.
— Ох, ничего себе! — не выдержал кто-то из ординаторов. — Боевыми стреляют!
— А ты как хотел, — мрачно произнес анестезиолог по фамилии Веревкин, — чтоб они праздничный салют устроили?
Я тут же вспомнил, как мой Рома, когда был совсем маленьким, при первых залпах салюта всегда
норовил спрятаться в укромное место. В шкаф или
в кладовку.— Тише, больного разбудите, черти! — показав
пальцем на еще спящего в остатках наркоза мужика,
негромко сказал доцент Матушкин.— Сейчас его и без нас разбудят! — кивнул в сторону телевизора Веревкин. — Да и хватит спать, война началась!
— А я еще вчера говорила, что нужно койки освобождать и всех, кого можно, выписать! — оглянулась
на всех Людмила, старшая операционная сестра. —
Теперь уж поздно, пусть лучше здесь побудут.Да, правильно, пусть здесь переждут. Больница
не самое плохое место, когда в городе начинаются военные действия и прочие катаклизмы. Два года назад, голодной осенью девяносто первого, буфетчица нашего роддома, возмущаясь отсутствием аппетита у рожениц, наваливала им полные миски каши
и орала: «Жрите кашу, жрите, дуры! Ведь там, — она
тыкала огромным черпаком в сторону окон, — ведь
там не будет!»— Ого, смотри-ка, БТРы пошли! — воскликнул ординатор второго года Коля Плакаткин. — На БТРах клевый пулемет стоит, КПВТ называется, дом насквозь прошить может!
Коля так воодушевился этим клевым пулеметом,
что подскочил и стал тыкать пальцем в экран, полностью перекрыв всем обзор. Только я что-то еще видел, потому как стоял очень удобно, за спинкой койки: телевизор находился как раз напротив. На Плакаткина тут же зашикали, и он отошел. Где-то там,
за окном, раздались отголоски пулеметной очереди.В крохотную палату послеоперационного отделения с маленьким телевизором на холодильнике набилось человек пятнадцать. Здесь, в урологическом
корпусе Первой Градской, это отделение гордо называлось «реанимацией». Наверное, для тех, кто настоящую реанимацию не видел.— Эти коммунисты сами хороши! — вдруг зло сказала Людмила. — Помните, когда в мае на проспекте
заваруха случилась? Тогда еще омоновца грузовиком
задавили. Так потом двое прибежали к нам с разбитыми головами и давай по матери всех крыть, перевязку требовать. Мы, говорят, из «Трудовой России»,
за вас, суки, кровь проливаем. А главное, поддатые
оба. А я не выдержала и одному, самому борзому, отвечаю: ты на себя посмотри, чмо болотное, кто еще
из нас сука! «Трудовая Россия» — она трудиться должна, а не по пьяной лавочке на митингах горлопанить! Они сразу хвост-то и поджали, притихли. Конечно, потом перевязала их, мне ж не трудно.— Похоже, они горлопанить закончили! — хмыкнул Веревкин. — Нынче эти ребята к решительным действиям перешли. Видели, как вчера мэрию захватили? Как они там людей избивали? На Смоленке
вообще нескольких милиционеров убили. Хорошо
хоть с телевидением у них номер не прошел. Слышал, неплохо их там шуганули!— Говорят, у Останкина человек сто постреляли,
если не больше! — сообщил похожий на боксера-легковеса Саня Подшивалко. — Ну и жизнь, без бронежилета на улицу не выйдешь!— Такому крутому парню, как ты, Сашок, никакой
бронежилет не нужен! — пошутил Плакаткин. —
Тебя можно с голыми руками на танки посылать!Все заржали, отчего послеоперационный мужик
заворочался и что-то промычал.— Чего веселитесь? — решил призвать всех к порядку Матушкин. — Смотрите, что творится, наверняка сейчас к нам навезут — мало не покажется! Кто
дежурит-то сегодня?— Да вот, господин Моторов! — кивнул на меня
мой напарник по палате, здоровенный Игорек
Херсонский. — Держись, Леха! Когда вам трудно —
мы рядом!Игорек всегда, даже с больными, разговаривал
рекламными текстами, чем успел всех основательно достать.— А вторым кто? — спросил Матушкин, потому
как урологи дежурят всегда по двое.— Витя Белов! — вздохнул я. Витя был неплохим
парнем, работать с ним было нормально, если только он на дежурстве не поддавал. Тогда он превращался в полного дурака, и следить за ним нужно было
в оба. Для меня оставалось загадкой, мобилизуют ли
сегодняшние события Виктора Андреевича или, наоборот, расслабят.— Ты не давай ему до киоска бегать, — словно услышав мои мысли, посоветовал Матушкин. — Не время сейчас, да и подстрелить могут.
Я представил себе, как Витя ползет под обстрелом к корпусу, вместо коктейля Молотова в каждой
руке сжимает по бутылке паленой водки, а танковые
снаряды ложатся все ближе.— Вчера, от тещи ехал, видел в метро на «Пушкинской» патруль баркашовский. Пятеро, свастика у каждого на рукаве, — поделился врач третьей палаты Чесноков. — Документы у пассажиров проверяли. То ли
евреев искали, то ли еще кого.— Докатились! Гестаповцы по Москве разгуливают! — произнес Веревкин. — Хорош, ничего не скажешь, этот говенный Верховный Совет, если его фашисты охраняют! Там, похоже, вся мразь собралась.
Ну, ничего, сегодня их как крыс передавят!— А я читал, баркашовцы вроде за русских людей, —
шмыгнув носом, неуверенно сказал Саня Подшивалко. — Они только против мирового сионизма.— Ты, Саня, явно с головой не дружишь, — заявил Веревкин. — Нельзя быть за русских людей —
и со свастикой. Из-за таких вот, со свастикой, половина пацанов моего поколения без отцов остались.
Я считаю, если в нашей стране свастику нацепил —
то можно сразу без суда и следствия к стенке ставить.— Да там не только они, там и казаки! — нахмурился Херсонский. — Казачков-то за что? Казачки они
всегда верой и правдой!— Игорь, что ты несешь? Какие казачки? Нету никаких казачков. Их всех еще в гражданскую порешили, — раздраженно сказал Матушкин. — Сейчас
не казаки, а урки ряженые, алкашня, клоуны в лампасах. А им еще, этим придуркам, автоматы выдали.— Это Ельцин во всем виноват! — раскрасневшись,
выпалила Людмила. — Ему народ доверился, а он, говорят, только и делает, что ханку жрет!Послеоперационный больной при упоминании Ельцина приоткрыл на мгновение глаза, мутным взглядом мазнул по экрану телевизора, где в прямом эфире продолжались боевые действия, и снова задремал.
— Да ладно тебе, Людка, — примирительно сказал
Чесноков. — Ельцин нормальный мужик. А раньше
что, лучше было? Ты ж сама коммунистов не жалуешь!— Раньше, Володь, из пушек по домам не палили, —
отрезала Людмила, — и по телевизору это безобразие на всю страну не показывали!И как бы подтверждая справедливость ее слов,
опять за окном раздалось упругое ТУДУМ-ТУДУМ-ТУММ!!!Все дружно уткнулись в телевизор. Один из верхних этажей Белого дома уже горел, и оттуда валил
черный дым. Танков стало уже четыре, да и бронетранспортеров прибавилось. Какие-то люди в военном и гражданском разбегались кто куда.Тут оператор дал крупный план набережных.
Людка всплеснула руками, Чесноков ахнул, Саня
Подшивалко открыл рот, Херсонский присвистнул, а Коля Плакаткин произнес негромко: «Едрена матрена!»По обе стороны реки, буквально рядом со стреляющими танками, толпились зеваки. Среди сотен,
если не тысяч любопытных я успел рассмотреть несколько мамаш с детскими колясками, женщин с собачками на поводке, старушек с сумками на колесиках и даже парочку велосипедистов.— Нет, ну действительно! Край непуганых идиотов! — потрясенно развел руками Матушкин. — Они,
оказывается, в цирк пришли! Да, сегодня работы много будет. Мне рассказывали, если в Америке перестрелка случается, все в радиусе километра на землю
падают и руками голову прикрывают! Даже негры!Протиснулся Дима Мышкин, под расстегнутым
халатом какой-то уж совсем невероятный пиджак,
подаренный, как и многое другое, старшим братом-банкиром.— Мне тут на пейджер сбросили, что за сегодня
доллар на сто рублей подорожал! — поправив красивые дымчатые очки, с важным видом оповестил
всех Дима и зачем-то посмотрел на свой золотой «Ролекс». — Кто успел бабки в баксы перевести, неслабо наварить сможет.— Да чокнулись все на этих баксах! — с осуждением зыркнула на Мышкина Людка. — Только везде
и слышишь: «Баксы, баксы…»— П-и-и-и-и-и-ть! — слабо простонал послеоперационный больной. Все на какое-то мгновение при-
тихли, а Людмила принялась смачивать ему губы
марлечкой, намотанной на ложку.За окном опять гулко ударило, на этот раз особенно сильно.
— Совсем сдурели! — чуть не выронив ложку, воз-
мутилась Людмила. — Они бы еще бомбить начали!Тут дверь распахнулась, и заведующий мужским
отделением Маленков, не обращая внимания на телевизор, громко спросил:— Моторов здесь?
— Здесь, Владимир Петрович! — выглядывая
из-за огромной спины Херсонского, отозвался я.— Ты вот что, командир! — фирменным окающим
говорком приказал Маленков. — Давай-ка ноги
в руки и бегом в хирургический корпус! Там в операционной паренек лежит, его менты здорово побили. Сейчас брюхо вскрыли, оказалось, что мочевой
пузырь ему в лоскуты разнесли. Помоги хирургам,
а главное, катетер Петцера захвати, а то у них своих
нет! Переоденешься прямо там, пижаму тебе выдадут! Если что — звони!
Журнал «Сеанс» издал книгу об Алексее Балабанове
На последнем концерте в Петербурге Земфира исполнила песню «Если бы» в память об Алексее Балабанове. Его внезапная смерть не оставила равнодушным не только знакомых и близких режиссера, но и всех ценителей отечественного кино. Балабанов — для кинематографа персона культовая. О нем до сих пор говорят в настоящем времени, посвящают ему свои творческие работы.
Режиссер ценил в людях порядочность и мечтал снять патриотический фильм, чтобы рассказать людям, «что такое американцы и что такое Америка, что такое Россия и что такое русские, что такое буржуи и что такое наши». Балабанов редко пересматривал свои работы и мало какие из них любил, считая, что идея всегда интереснее реализации.
«Балабанов» продолжает «черную» режиссерскую серию книг, запущенную журналом (книги о Кире Муратовой и Александре Сокурове вышли ранее). Том состоит из нескольких разделов и представляет собой подробный рассказ о жизни и работе важнейшего автора в российском кино девяностых и нулевых.
Сегодня книга поступила в продажу, успев ко дню рождения режиссера 25 февраля. Найти ее можно в магазине «Порядок слов».
Анна Старобинец. Икарова железа
- Анна Старобинец. Икарова железа. Книга метаморфоз. – М.: АСТ, 2013. – 256 с.
Икарова железа
Началось с мелочей. Задерживался, иногда допоздна, — и как ни наберешь его, абонент недоступен, хотя, вроде бы, не ездил в метро. А дома, по вечерам — не каждый день, но все же бывало, — уходил с телефоном в дальнюю комнату или в ванную и плотно закрывал дверь, «чтоб Заяц не мешал говорить по работе». А Заяц давно уже вырос и не мешал говорить. Он вообще не мешал. Сидел в своей комнате, за компьютером, в мохнатых наушниках; ему было тринадцать… Когда-то Заяц все время перебивал, и не давал звонить по телефону и смотреть телевизор, и вламывался в семь утра в спальню — он был веселым и приставучим, и постоянно хотел, чтобы они пришли в его комнату и посмотрели на что-нибудь абсолютно обычное, но почему-то его вдруг восхитившее. «Смотрите, как я поставил своего космонавта», «смотрите, как мои тигры прячутся за углом», «смотрите, как я рисую желтое солнце», «смотрите», «смотрите»… Когда они были заняты и не хотели смотреть, или просто в педагогических целях его игнорировали, Заяц нервничал и начинал прыгать на одном месте. За это его и прозвали Зайцем. Теперь ему было не важно, смотрят они на него или нет, он больше не прыгал и не звал в свою комнату, но прозвище так и осталось, как напоминание обо всем, чего они не увидели и уже не увидят…
— Не впутывай Зайца, — сказала как-то она, когда он вышел из ванной с телефоном в руке. —
При чем тут Заяц. Понятно, что ты закрылся там от меня.
Она ждала в ответ отрицания, раздражения, кислой мины, чего нибудь насчет паранойи; она и сказала-то не всерьез, а так, для разминки, скорее в том духе, что он невнимателен к сыну, и к ней невнимателен, и вообще толстокожий — но он вдруг начал краснеть, как ребенок, — сначала уши, потом щеки и лоб. И только потом уже — отрицание, раздражение, мина. Она испугалась.
Когда он уснул, она вошла в социо и набрала в поисковой строке: «Мне кажется, что муж изменяет».
У других было так же. Те же «симптомы», те же страхи и подозрения. А у некоторых и куда хуже: «нашла в мобильнике мужа SMS от любовницы», «нашла в его почте фотографию голой девушки», «нашла в кармане презервативы». Стало легче. Как-то спокойнее. Она не одна, и вместе они справятся с общей бедой.
К тому же ее беда пока еще не доказана.
…Прочитала совет психолога. «Если вам кажется, что муж изменяет, не бойтесь обсудить с ним эту проблему. Говорить нужно спокойно, без истерики, криков и ультиматумов, даже если подтвердятся ваши самые плохие догадки. Истерикой вы только отпугнете вашего Мужчину и толкнете его в объятия любовницы. Будьте мудрой. Не злитесь на него, посочувствуйте. Неверность — своего рода болезнь, но, к счастью, она излечима».
Совет ей не понравился, он был не по существу. Вопрос ведь не в том, как вести себя, когда «подтвердятся догадки». Вопрос в том, как вытянуть из него правду. Она вбила другой запрос: «Как узнать, изменяет ли муж?»
Сразу же вылез социо-тест: «Изменяет ли муж». Всего десять вопросов. Розовым, нарядным шрифтом. На все, кроме пятого, седьмого и десятого, она ответила быстро:
1. Сколько тебе лет?
а) меньше 30 б) от 30 до 40 в) больше 40
2. Сколько ему лет?
а) меньше 35 б) от 35 до 45 в) больше 45
3. Он прооперирован?
а) да б) нет
4. Вы занимаетесь сексом
б) чаще 1 р./нед. б) от 1 р./нед. до 1 р./2 нед. в) реже 1 р./2 нед.
5. Он оказывает тебе знаки внимания?
а) да б) нет
6. У вас есть общие дети?
а) да б) нет
7. Он занимается детьми? (пропустите вопрос, если детей нет)
а) да б) нет
8. Он часто задерживается на работе?
а) да б) нет
9. Он проводит выходные с семьей?
а) всегда б) не всегда
10. Ты привлекательная женщина?
а) да б) нет
Пятый, седьмой и десятый вызывали сомнения. Оказывает ли он знаки внимания — это как понимать? В смысле: дарит ли цветы? — ну, разве на день рождения; подает ли пальто — да, конечно, он ведь интеллигентный; какие то приятные сюрпризы, духи, украшения, билеты в кино? — чего нет, того нет… Зато по выходным он всегда приносит кофе в постель. С бутербродиком — он готовит вкусные горячие бутербродики… Это приятно. Так что «знаки внимания» — да. Но вот дальше…
Занимается ли он с детьми? Некорректный вопрос: Зайцем поди займись. Он самостоятельный, самодостаточный такой Заяц. У него есть компьютер, социо игры, длиннющая френд лента, он сам себя занимает. Если бы вопрос звучал «любит ли», «заботится ли» — тогда да. Однозначно да. Он очень любит ребенка. Состоял даже в школьном родительском комитете, но потом его исключили… Потому что когда всех мальчиков из класса организованно отправляли на плановую операцию и нужно было подписать разрешение — простая формальность, — он отказался поставить подпись, и Заяц в клинику не пошел. Одна мамаша, самая активная в комитете, сказала тогда, что они безответственные эгоисты. Подвергают ребенка риску из-за каких-то своих заскоков — или, может быть, им просто денег жалко на такое важное дело. Но ведь деньги тут ни при чем! Она-то знала: он не отпустил Зайца в клинику, потому что боялся. Минимальная вероятность — сколько-то десятых процента, — что что-то пойдет не так. Все эти истории о подростках, которые потом всегда спят. Он не хотел. Он сказал: «Мне не нужен плюшевый Заяц». Она не спорила. В конце концов, у Зайца спокойный характер, он в основном сидит дома, все друзья у него круглосуточно в социо. Не так уж они и рискуют… Словом, да, пожалуй: он занимается сыном…
Последний вопрос не понравился ей совсем. Привлекательная ли она женщина — это с чьей же, блин, точки зрения? Разозлившись, ткнула мышкой розовенькое «да». Но при этом думала про морщину — ту, которая вертикальная, на переносице. Очень заметная. Но если ботоксом ее накачать, может стать еще хуже, как будто лицо дубовое.
И еще седые волосы на висках. Каждый месяц красит отросшие корни японской краской, но он-то знает. Рассказала сдуру сама. Не сказала бы — не заметил.
Результат теста расстроил: «Не исключено, что муж действительно вам изменяет. Возможно, у него кризис среднего возраста. Тем не менее, у вас хорошие шансы одержать верх над соперницей и сохранить брак. Добровольная операция, скорее всего, решит все проблемы».Она в третий раз перечитывала свой результат, когда услышала звук. Тихий всхлип его мобильного телефона. Пришла эсэмэска. В два ночи. Что-то больно колыхнулось внутри — будто кто-то резко дернул за ниточку, и привязанный к ниточке ледяной шар подскочил из живота в горло — и снова обратно.
Мобильный она вытащила у него из под подушки еще час назад. На всякий случай. Посмотрела «входящие» и «отправленные». Не нашла ничего подозрительного. Но теперь там что-то пришло.
Это «Билайн», сказала она себе. Просто «Билайн». О том, что нету кредита….
Не «Билайн». Одно новое сообщение от абонента «Морковь».
Морковь?.. Что за бред… Заяц любит морковь…
Это, что ли, учитель Зайца?…
Она ткнула одеревеневшими пальцами в горячие кнопки. Открыть сообщение.
«Спишь?» И все. Всего одно слово. С вопросительным знаком.
Она ответила: «Нет».
Доставлено.
«А она?»
Ледяной шар бешено запрыгал внутри и застрял в горле. Все было ясно. Все ясно. Но зачем-то она снова ответила. «Спит». Чтобы доказать, — вертелось у нее в голове. Чтобы наверняка доказать, чтобы точно, чтобы доказать точно…
«Позвони, — сообщила Морковь, — а то я скучаю».
«Сука», — написала она.
Без истерики?
Без обвинений?
…Не получилось. Зашла в спальню, включила свет, швырнула прямо в лицо телефон. Проснулся всклокоченный, припухший, нелепый, как во французской комедии. Заслонялся от света и от нее. Зачем-то прикрывал одеялом живот.
—Почему Морковь?! — визжала она. — Почему, почему Морковь?!
Отчего-то казалось, что это самый важный вопрос. Так и было.
—Потому что… как бы… любовь. Ну, любовь-морковь, понимаешь…
—Понимаю. Ты ее трахаешь. Ты трахаешь овощ.
Ледяной шар, распиравший горло, соскользнул вниз, и она, наконец, заплакала. Он тем временем натянул трусы и штаны. Отвернувшись. Как будто стеснялся. Как будто она у него там что-то не видела.
Она сказала: катись! Он послушно стал одеваться.
Догнала уже в коридоре, вцепилась в куртку, остался.
Без истерики, — повторяла она себе, — без истерики, криков и ультиматумов. Сели на кухне, даже налила ему чай, как будто все было в порядке, разговаривали, она держала себя в руках, спокойно спрашивала: как давно? как часто? насколько серьезно? и что, правда любишь?.. а меня? Меня-то? меня?
Он ответил:
—Тебя тоже люблю. По-своему.
«По-своему». Она слишком хорошо его знала.
Мягкий характер. Он просто не умел говорить людям «нет».
—По-своему? — хрипло переспросила она.
И вдруг швырнула — хорошая реакция, увернулся, — синюю Зайцеву чашку. Прямо с чаем, или что там в ней было. Осколки разлетелись по кухне, бурая жижа заляпала стену многозначительными пятнами Роршаха.
…Чужие, убогие, из телевизора, пошлые, готовые фразы поползли к языку, как муравьи из потревоженного сгнившего пня. Всю жизнь поломал… Столько лет отдала… Верни мою молодость…
—Тише… ребенок, — затравленно сказал он.
На пороге кухни стоял заспанный Заяц. Босиком. В одной майке.
Еще одна порция муравьев высыпана наружу.
Она не хотела, но они лезли сами:
—О ребенке раньше бы подумал, кобель!.. Когда нашел себе эту!..
—Пап, ты что… — басовито произнес Заяц, а потом закончил по детски пискляво: — Нас бросаешь?
«Голос ломается», — подумала она отстраненно, а вслух сказала:
—Ну что же ты. Ответь сыну, папа.
—Не смей, — белыми губами прошептал он, —…его впутывать.
Вскочил, пошел в коридор, снова стал натягивать куртку; молча, трясущимися руками, долго, гораздо дольше, чем нужно, застегивал молнию.
Она кричала:
—Если уйдешь, обратно не возвращайся!
И еще что-то кричала.
А Заяц сказал:
—Зачем он нам нужен, если он с нами не хочет.
Потом она ушла плакать в спальню, а он о чем-то беседовал с Зайцем, стоя в дверях. Потом он ушел. К своей. К этой. Куда еще он мог пойти в пять утра?
Но вещи никакие не взял, только телефон и бумажник.
Она отправила ему SMS: «Придется выбрать — она или мы». Ответа не было. Тогда она написала еще: «С ребенком видеться не будешь вообще».
Пришел ответ: «Гуля, это шантаж». Глотая сопли, она набрала: «А как с тобой еще, сволочь?»
Дэйв Эггерс. Голограмма для короля
- Дэйв Эггерс. Голограмма для короля. — Пер. с англ. А. Грызуновой. — М.: Фантом Пресс, 2014. — 320 с.
I
Алан Клей проснулся в Джидде. 30 мая 2010 года.
Летел в Саудовскую Аравию двое суток.
В Найроби познакомился с одной женщиной.
Сидели рядом, ждали посадки. Высокая, пышнотелая, в ушах капельки золота. Румяная, мелодичный
голос. Понравилась Алану — обычно люди, каждодневные его знакомые, ему нравились меньше. Сказала, что живет на севере штата Нью-Йорк. А он
под Бостоном — практически рукой подать.Хватило бы храбрости, он бы придумал, как
продолжить знакомство. Но нет, он сел в самолет,
полетел в Эр-Рияд, оттуда в Джидду. В аэропорту
его встретили и отвезли в «Хилтон».
Щелчок замка — и в 1.12 Алан вошел в номер.
Быстренько подготовился ко сну. Поспать не помешало бы. В семь отправляться, ехать час, к восьми — в Экономический город короля Абдаллы. Там
с командой установить систему голографических
телеконференций и ждать презентации перед королем. Абдалла, если ему понравится, все ИТ города
отдаст на откуп «Надежне», а комиссия, обещаннаяАлану, — крупное шестизначное число — исправит
все, что его терзает.
В общем, к утру надо отдохнуть. Быть готовым.
А он четыре часа уснуть не мог.
Думал о дочери Кит — в колледже учится, в
прекрасном колледже, и притом дорогом. Алану
нечем оплатить осенний семестр. А оплатить он не
может, потому что в жизни своей принимал неверные решения. Неудачно планировал. Недоставало
храбрости, а без храбрости было никуда.
Его решения были недальновидны.
И чужие решения были недальновидны.
Безрассудные были решения, хитроумные.
Но он тогда не знал, что его решения недальновидны, безрассудны и хитроумны. Он и сотоварищи не подозревали, до чего в итоге докатятся все они, — до
чего докатится Алан: почти банкрот, почти безработный, владелец, он же единственный сотрудник консалтинговой фирмы с домашним офисом.
С матерью Кит он развелся. Дольше живут по
отдельности, чем были вместе. Руби — смертоносный геморрой, жила теперь в Калифорнии, деньгами Кит не помогала. Колледж — твоя забота,
сказала она Алану. Уж будь мужчиной, прибавила она.А осенью Кит в колледж не пойдет. Алан выставил дом на продажу, но дом пока не ушел. Других вариантов нет. Алан многим задолжал — в том
числе $ 18 тысяч двум велоконструкторам за прототип нового велосипеда, который Алан думал выпускать в Бостоне. За что был обозван идиотом. Он
должен Джиму Вону, который ссудил ему $ 45 тысяч — на сырье, на первый и последний месяц
аренды склада. Еще штук 65 он должен полудюжине друзей и несостоявшихся партнеров.
В общем, он банкрот. А когда сообразил, что не
сможет оплатить колледж, поздно было искать другие источники. И переводиться поздно.Здоровая девица пропускает семестр в колледже — это трагедия? Нет, не трагедия. Долгая
и мучительная мировая история даже не заметит, что умная и способная девица пропустила семестр. Кит переживет. Не трагедия. Отнюдь не
трагедия.
С Чарли Фэллоном, говорили, случилась трагедия. Чарли Фэллон до смерти замерз в озере неподалеку от Аланова дома. В озере у Алана за
забором.Не в силах уснуть в номере «Джидды-Хилтона»,
Алан думал о Чарли Фэллоне. Алан видел, как
Чарли вошел в озеро. Алан как раз уезжал в карьер. Непонятно, зачем Чарли Фэллону в сентябре
лезть в мерцающую озерную черноту, но, в общем,
ничего тут такого нет.Чарли Фэллон слал Алану книжные страницы.
Это длилось два года. Чарли довольно поздно открыл для себя трансценденталистов — словно давно потерянных братьев отыскал. Брукфарм* неподалеку — Чарли считал, это что-то значит. Изучал своих бостонских предков, надеялся на родство — ничего не нашел. Но все равно слал Алану страницы — отдельные фрагменты выделял маркером.Машинерия незаурядного ума, считал Алан. Кончай слать мне эту макулатуру, говорил он Чарли.
Тот ухмылялся и продолжал.Увидев, как Чарли в субботний полдень заходит
в озеро, Алан решил, что перед ним логическое
развитие новообретенной любви к природе. Когда
Алан проезжал, Чарли стоял в воде по щиколотку.II Когда проснулся в «Джидде-Хилтоне», уже опоздал. На часах 8.15. Уснул только в начале шестого.
В Экономическом городе короля Абдаллы его
ждали к восьми. Дорога — минимум час. Пока душ,
пока одеться, пока доехать — десять утра. В первый
же день командировки он на два часа опоздает. Вот
дурак. И дуреет с каждым годом.Звякнул Кейли на мобильный. Она ответила —
голос сиплый. В иной жизни, на другом повороте
колеса, где он моложе, она старше и обоим достало
бы глупости, они бы с Кейли отжигали.— Алан! Привет. Тут красота. Ну или не красота. А вас нету.
Он объяснил. Врать не стал. Уже не хватало сил,
не хватало выдумки на вранье.— Ну, не переживайте, — сказала она и хихикнула — этот голос намекал на возможность, славил существование фантастической жизни, полной неустанной
чувственности, — мы только начали. Но вы уж добирайтесь сами. Кто-нибудь знает, как тут машину найти?Это она, похоже, заорала коллегам. Судя по звуку, там какая-то пещера. Алан вообразил темную пустую нору — три молодых человека со свечами
ждут, когда Алан принесет фонарь.— Он не может взять в прокате, — сказала она
им. Потом ему: — Взять в прокате можете?— Разберусь, — сказал он.
Позвонил вниз:
— Здравствуйте. Это Алан Клей. А вас как зовут?
Он всегда спрашивал. Еще Джо Триволи в «Фуллер Браш»* приучил. Спрашивай имена, повторяй
имена. Ты запоминаешь людей, они запоминают тебя.Администратор сказал, что зовут его Эдвард.
— Эдвард?
— Да, сэр. Эдвард меня зовут. Чем могу быть
полезен?— Вы откуда, Эдвард?
— Из Джакарты, сэр.
— А, Джакарта, — сказал Алан. И сообразил,
что ему нечего сказать о Джакарте. Он ничего о
Джакарте не знает. — Как вы думаете, Эдвард,
можно мне через отель взять машину напрокат?— А международные права у вас есть?
— Нет.
— Тогда, наверное, не стоит.
Алан позвонил портье. Сказал, что ему нужен
водитель с машиной — доехать до Экономического города короля Абдаллы.— Придется немножко подождать, — сказал
портье. Акцент не саудовский. Видимо, саудовцы в
этом саудовском отеле не работают. Это-то Алан
понял. Говорят, саудовцы почти нигде не работают.
Всю рабсилу импортируют. — Нам нужно найти
подходящего водителя, — сказал портье.— А такси вызвать нельзя?
— Да не очень, сэр.
Алан вскипел, но он ведь сам виноват. Сказал
портье спасибо, повесил трубку. Он знал, что в Джидде и Эр-Рияде так запросто такси не вызвать — об этом предупреждали путеводители, очень красноречиво живописали, сколь опасно для иностранцев
Королевство Саудовская Аравия. В Госдепартаменте
оно чуть ли не первым номером в списке. Не исключены похищения. Алана могут продать «Аль-Каиде»,
потребовать выкуп, через границу перебросить. Но
Алану никогда ничего не угрожало, а он по работе
ездил в Хуарес в девяностых и в Гватемалу в восьмидесятых.
Телефон.
— Нашли водителя. Когда он вам понадобится?
— Как можно скорее.
— Через двенадцать минут будет здесь.
Алан принял душ и побрил крапчатую шею. Надел
майку, белую рубашку, хаки, мокасины, бежевые носки.
Ты американский бизнесмен? Вот и одевайся соответственно, сказали ему. Предостерегали: бывали случаи,
когда чрезмерно рьяные западные туристы обряжались в дишдашу и куфию. Из кожи вон лезли, чтобы слиться
с обстановкой. Никто им за это спасибо не говорил.Поправляя воротник, Алан нащупал шишку на
шее — обнаружил месяц назад. С мячик для гольфа,
торчит из позвоночника, на ощупь как хрящ. Временами казалось, что это лишний позвонок, — ну
а что еще это может быть?Может быть опухоль.
Такая шишка прямо на позвоночнике наверняка
инвазивна и смертельна. В последнее время в голове мутится, походка неловка — ужасно, но логично,
если на шее что-то растет, пожирает его, высасывает жизненные соки, притупляет остроту ума и выхолащивает целеустремленность.Хотел к врачу сходить, но так и не сходил. Врач
не станет это оперировать. Алан не хотел облучаться, не хотел лысеть. Нет, надо не так; надо иногда
ее щупать, отмечать сопутствующие симптомы, снова щупать и больше ничего не делать.Через двенадцать минут Алан был готов.
Позвонил Кейли:
— Выезжаю.
— Вот и славно. Когда приедете, мы тут уже все
поставим.Команда может добраться без него, все поставить
без него. Он-то здесь зачем? Под благовидным пред-
логом разве что, но предлог сработал. Во-первых,
Алан старше всех в команде — они прямо дети, тридцать и моложе. Во-вторых, Алан когда-то водил
знакомство с племянником короля Абдаллы — в
середине девяностых вместе занимались пластмассой, и Эрик Ингвалл, вице-президент нью-йоркской
«Надежны», счел, что этого хватит привлечь внимание короля. Может, и не хватит, но Алан не спорил.Хорошо, что есть работа. Работа ему нужна. Последние года полтора, до звонка Ингвалла, пообломали Алану крылья. Он не ожидал, что в таком возрасте придется заполнять налоговую декларацию на
$ 22 350. Семь лет консультировал из дома, с каждым
годом доходы таяли. Никто ничего не тратил. Еще
пять лет назад дела шли хорошо, старые друзья подбрасывали заказы, он был полезен. Знакомил с поставщиками, пользовался уважением, пользовался
связями, как-то выкручивался. Думал, чего-то стоит.А теперь ему пятьдесят четыре, и корпоративной Америке он интересен не больше, чем глиняный самолет. Работы не найти, клиенты не идут.
Сначала «Швинн», потом «Хаффи»*, «Производственное объединение „Фронтир“», «Консалтинг Ала на Клея», а теперь он сидит дома и смотрит на ди-ви-ди,
как «Ред Сокс» выигрывают чемпионат в 2004-м
и 2007-м. Ту игру, когда у них было четыре хоумрана
подряд против «Янки». 22 апреля 2007 года. Сто раз
посмотрел эти четыре с половиной минуты и неизменно переживал что-то похожее на радость. Как
будто все правильно, во всем порядок. Победа, которой не отнять.
Алан позвонил портье:
— Машина приехала?
— Простите, опоздает.
— Это вы из Джакарты?
— Это я.
— Эдвард?
— Эдвард.
— И снова здравствуйте, Эдвард. На сколько она
опоздает?— Еще двадцать минут. Прислать вам завтрак?
Подошел к окну, выглянул. Красное море спокойно, с такой высоты — море как море. Прямо по
берегу — шестиполосное шоссе. На пирсе рыбачит
троица в белом.
Глянул на соседний балкон. Увидел свое отражение в стекле. Человек как человек. Когда побрит и
одет, сойдет за настоящего. Но взгляд потемнел, запали глаза — люди замечали. На последней встрече
школьных выпускников один дядька, бывший футболист, которого Алан презирал, спросил: «Алан Клей,
тебя что, контузило? Что с тобой такое?»С моря дохнуло ветром. Вдали по воде тащился
контейнеровоз. Тут и там редкие суда, крохотные,
будто игрушечные.
Алексей А. Шепелёв. Настоящая любовь
- Алексей А. Шепелёв. Настоящая любовь.— М.: Фонд СЭИП, 2013. — 296 с.
Russian Disneyland
Повесть 26.
13 мартаЧасов в одиннадцать утра Серж направился к Белохлебову. Во дворе фермера не оказалось, и Серёжка решил зайти к нему домой, поскольку его распирало кое-что тому поведать. Дверь была открыта, бабка видно ушла к соседке. Из «избы» (главной большой комнаты) доносился барский храп.
Белохлебов, завернувшись не сказать уж что в рогожу, но в суперстарообрядное изветшавшее покрывальце, что называется дрых без задних ног на старом раскладном диване. Рядом на полу возлежали баян, двустволка и пустая бутылка от польской водки «Распутин».
«Так, понятно», — с улыбкой от всё более разгорающегося внутреннего предвкушения одобрил Серёжка, ещё раз огляделся (никого!), наклонился прямо к самому уху фермера и что есть мочи заорал: «Пад-ём!»
— А?! Что?! Ка-а-ак-пчхи?!. Фу, это ты, что ль, Серёжк?
— Нет, не я! Сорок пять секунд, дядь Лёнь!
— …Сажечка уехал к Генурки.
От простого этого предложения, как уже и было понятно, фермер свалился назад, на спину, и даже засучил ногами.
(…)Как говаривала бабушка, «все у него на призывах», то бишь всем розданы характерные клички. И два основных его создания — два его подчинённых, «младших фермера» что «Сажечка», что «Генурки» были вроде и уменьшительными и даже ласкательными именами, но звучали в произношении фермера весьма неоднозначно. Геннадий Коновалов, тридцать два года, женат, двое детей, тракторист-машинист третьего класса, живёт в соседнем сельце Холмы. Был, как и Сажечка, помощником Белохлебова, но уж побольше полугода назад тот вышиб его за пьянство. Однако он всё же изредка прирабатывал в Белохлебовском хозяйстве, соглашась на самую чёрную работу на самых выгодных для фермерского хозяйства условиях, чем в основном и жил, а также другим редким колымом, но ему что называется хватало, потому как жена с детьми уехала от него в город. А Сажечка наш, в свою очередь, стал нащупывать в таком положении звёзд и светил своего рода плацдарм для исправления невыносимости своего. В последнюю их, двух помощников, встречу он и был застигнут Белохлебовым стоящим на коленях подле возлежащего на одре из дров — как на древнем погребальном костре — Коновалова и произносящего: «Гена, ты одна для меня путеводная звезда… Ты — самая моя звезда!.. Я всё сделаю — главное, чтобы ты жил!..». Надо ли говорить, что он тут же получил от руководителя (которому, как вы поняли, приведённые слова настолько запали в душу, что он их запомнил дословно и потом не раз цитировал не помнящему и не понимающему, как он мог такое изречь, Сажечке, а то и разыгрывал сценку перед Сержем, заставляя воздыхателя вставать на колени куда-нибудь в лужу) увесистого пинчища, а гуру — дрыном по башке. «Я эту секту искореню! Вот увидишь, Серёжка, узришь!» — чуть ли не поклялся тогда Белохлебов.
— Кагда??!!! — вопил он. — На чём?!
— С утра, дядь Лёнь. На МТЗ своём… твоём.
— Крыса седая чахлая! Убью ведь обоих! — Фермер как-то перекатнулся на спине и приземлился на пол — почти на корточки. Схватил ружьё, попрыгал к сейфу, где был ещё и пистолет.
Напяливал форму с отпоротыми знаками отличия, похожую на извечное облаченье Фиделя Кастро, спотыкаясь и путаясь в штанинах и рукавах, на ходу отдавая распоряжения Серёжке («Заводи, Серёжа, «Камаз!») и пришедшей бабке.
(…)Серж с мастерством и проворством заправского взрослого водилы, а то и гонщика «Париж-Дакар», рулил по бездорожью; Белохлебов, колыхаясь и напутствуя, быстро и жадно поглощал закуску, с удовольствием прихлёбывая пивом.
30.
Дом Коновалова был деревянный (что значит: другая деревня!) и порядком развалившийся и располагался на отшибе, на бугре, заросшем американкой, полынью и репейником, теперь являвших собой сухой бадорник. У дома стоял Сажечкин трактор, весь в грязи, как перекрашенный или вообще сделанный из земли. Дверь трактора, как и дверь дома, была открыта, а сам он стоял буквально въехав в то, что когда-то было крыльцом. Остался один столбик и кое-как держащаяся на нём покосившаяся крыша, перила и пол частично отсутствовали, а частью присутствовали под колёсами трактора.Фермера вылезли из машины и поспешили в избу. В сенях, конечно, был жуткий беспорядок, хлам и грязь, выразительно пахло дрожжами, сивухой и блевотиной. «Карты-картишки, всё с вами ясно!..» — пропел Белохлебов, несколько замешкавшись перед избяной дверью, словно предвкушая. Серёга тоже предвкушал уже представление в стиле «Дядь Лёнь, прости!» и даже невольно представлял, как вечером будет пересказывать брату и бабушке.
И вот зашли: на полу валялся Генурки, свернувшись в клубочек, или как рапортует Белохлебов, «в согнутом состоянни», на его ногах в промасленных оборваных штанах и чудо-носках, дырявых до степени условности самого своего наименования, лежала маленькая дурная голова Сажечки, ноги же последнего были в сапожищах, облепленных засохшей грязью.
Полы и даже стены были истисованы 1 грязными сапогами. Полураздолбанный Генуркин кассетник стоял под столом, включенный в сеть, и щёлкал забытой на перемотке кассетой. В чулане Серёга обнаружил самогонный аппарат в действии.
Белохлебов обошёл спящих и, неспешно приноравливаясь и представления ради сделав ложную разбежку, с выкриком «Одиннадцатиметровый! Двенадцатичасовой!» выписал Генурки по откляченному месту классического пенчера. «Не хуже вчерашнего», — отметил про себя Серж.
Генурки дёрнулся и замямлил во сне. Белохлебов схватил Сажечку, приподнял и тряхонул его. Весь красный и опухший, тот открыл глаза, пустовато таращась, видимо, пытаясь понять, кто он, где и кто перед ним.
— Лёнька… — голос его звучал издалека.
— Я те, сука, дам Лёнька!
Фермер швырнул помощника в чулан — так, что он загремел там в какую-то посуду. Принялся трясти второго.
— Генурки! Вставай, мой золотой!
Веки разлепились, глаза были ещё более красные, взгляд был ещё более нездешний и равнодушный.
Белохлебов, улыбаясь, бережно приподнял голову младшего помощника, приблизил к себе.
— Это ты, Ген?
— Вя…
— Ты, — констатировал Белохлебов, а потом, театрально сменив тон, будто бы с великим сожалением спросил: — Нажрался?
Совсем неожиданным было то, что Генурки в этот момент как-то вырвался, вскочил и, сильно ударив кулаком себя в грудь, заорал:
— Нажрался!!!
— Нет, какая наглость! — Начальник таким же способом отправил в чулан и Генурки. — Герой мне нашёлся! Марат Казей! Олег Кошевой! Повесть о Зое и Шуре! Как будто его фашисты допрашивают, фетишисты, а он: я! Щенок пузатый! Крыса чахлая! Я за тобой прибасать не буду!
— Давай прибаснём!..2 — эхом отозвался из чулана Сажечка.
Белохлебов отщёлкнул кнопку магнитофона, выдернул его из розетки и бережно убрал на место.
Когда он заглянул в чулан, то прямо обомлел: на вёдрах и бачках полулежали оба помощника с полными стаканами в руках! Более того, не обращая никакого внимания на хозяина, они чокнулись и, трясясь, морщась и обливаясь, протянули прямо у него на глазах по целому губастому стаканищу первача!!
Белохлебов нашёл выключатель и включил свет в чулане, но он не загорелся, показал пистолет, снял его с предохранителя… Знакомый звук всё же привлёк рассеянное внимание пьяных. Они сразу вскочили (как им казалось), а на смом деле не сразу: довольно ещё покуртыхались, пытаясь устоять на расслабленных ногах, но всё же встали, порядком напуганные, и когда им уступили дорогу, вышли на свет божий.
Белохлебов схватил Генурки в охапку и, приставив пистолет, поволок из избы. Поставил к стенке, отошёл, целясь. Видно было, что герою всё равно — ему и так плохо (или вместе с тем и хорошо), что наверно всё одно… Только хотел выстрелить, как тот упал — прямо как был плашмя, прям лицом в грязищу. Тут фермер попросил третьего помощника, «неофициального, но самого вменяемого», принёсти из сеней бутылку с олифой, старую и всю в пыли, уж давно замеченную его прапорским хозяйственым глазом: как-то он уж выспрашивал у Сержа: «Гля, олифу-то наверно надо забрать?..», на что получил ответ: «Да накой она тебе, дядь Лёнь? — она уж столетняя!» (а про себя: мелочен как Кенарь!), и, видно, напрасно: теперь и сгодилась! Повесил её на проволоке за край крыши, а Генурки поставил-прислонил так, что бутылка оказалась как раз над его головой. Отошёл.
— Прощай, друг Генурки… — тихо молвил Белохлебов.
На сей раз, когда опохмелка, видно, достигла души, жертва грохнулась на колени — опять в самую жижу.
— Дядь Лёнь, прости!!
— Нажрался?!!
— Нажрался… — теперь голос Коновалова звучал тихо и жалобно.
— Он тебя споил? — строго спросил фермер, продолжая экзекуцию, так сказать, инквизицию.
— Вместе, дядь Лёнь, ей-богу, вместе.
— Самогон пили?
— Да, дядь Лёнь, самогончик. Только стопка набежит — мы её хлоп!
— Значит, набежит? Сами гоним, сами пьём, и хлоп, да?.. Вот и я вас хлоп! Прощай, Генурки!..
Произнеся это, Белохлебов выстрелил в бутылку.
Генурки весь передёрнулся, как будто пуля попала в него, и вновь упал плашмя. Весь был забрызган олифой, которая ему самому показалась кровью.
Белохлебов стоял над ним, не то поразившись и глубоко задумавшись, не то закатившись, что и не продыхнуть, от смеха.
Серёжка что-то кричал ему. Фермер очнулся.
— Сажечка убёг!
Сажечка уже завёл трактор и сидел внутри, врубил сдуру девятую — трактор прыгнул и заглох. Снова завёл и врубил восьмую, резко отпустив сцепление, — трактор прыгнул и поскакал.
Белохлебов запрыгнул в «Камаз».
— Серёж, залезай!
И они тоже рванули с места.
31.
Сажечка выписывал кренделя по паханому полю — земля была как кисель — Белохлебов летел за ним. Начались гонки в стиле «Кэмел-трофи»: крутые виражи, заносы, пробуксовка, дым, струями летящая грязь… в кабине — тряска, пот и пар, накал эмоций…Как ни странно, Сажечка, который пару раз чуть не перевернулся, всё же как-то умудрялся сохранять равновесие и дистанцию. А вот охмелившийся Белохлебов, закладывая очередной резкий поворот, чтоб в который уже раз «пойти наперерез», вдруг зарулил так, что грузовик едва-едва не упал на бок. Тут уж и Серж, несколько раз уже неплохо треснувшийся лбом об «дверной косяк», воспользовшись паузой — машина была парализована, сильно наклонившись на бок, так что водитель, получалось, теперь держался за баранку только потому, что скатился, чуть не вышебленный вовсе, вниз к помощнику — сказал несколько слов главному фермеру (в том числе, и как вырулить, чтоб не упасть совсем), а потом и вовсе пересел на водительское место.
Белохлебов же, опять и снова как ни в чём не бывало, достал из-за сиденья двустволку, патроны, зарядил и со словами «Ты в профиль, Серёжк, как бы наперерез!..» приладился в ветровое окно.
Началась пальба!.. Сажечка был уже у края поля, и его носило из стороны в сторону максимально сильно — несмотря на это (и на увещевания Сержа: «Дядь Лёнь, поверху-то уж не стреляй — убьёшь ещё!») бывший прапор, выкрикивая между выстрелами и виражами: «Убью! А ты думаешь — ать!!! — я что хочу?! Покалечу! Ты, падла, у меня полгода будешь лежать… На-ка!!! Работать будешь — лёжа — похрен! — в инвалидной коляске… в гипсе и с гирей — бесплатно будешь — от-так!!! — вкалывать, тварьё алкашовское!».
Выйдя на дорогу, а с неё на луг, трактор быстро оторвался, погнал по холмам вниз, в лощину к речке, пока не скрылся из виду (Белохлебов ругался ещё пуще, одновременно умолял и заклинал гнать побыстрее и, конечно же, наперерез и в то же время ещё и местами пытался вырвать руль!), а потом по пойме поехал обратно.
Так, сделав небольшой крюк и некоторого рода даже обманный манёвр, он вскоре явился по пойме опять ко двору Генурки — и тоже «как бы с понтом как ни в чём не бывало».
Однако действительно (или по крайней мере, так показалось Сажечке, который потом всё и рассказывал) в состоянии «как ни в чём не был» пребывал «друг Генурки» — он полулежал в чулане на тех же бачках и «выжидая, как набежит, выжирал самогонище».
Сажечка же, надо сказать, с молодости был благой3: имел нрав крутой и даже злопамятный. Хотя сам это Серж «не застал» — никогда не видел. Одно из первых ярких воспоминаний детства, по словам брата Лёни, был сидящий на корточках с обрезом, перемотанным синей изолентой, Сажечка и окровавленная физиономия соседа дедка Пимча (отчество Пименович), его руки и одежда в крови… Выстрелы… Бабушка расказывала потом, как Сажечка туразил 4 за дедом (вроде играли в карты по пьяни и что-то не поделили), караулил обидчика у их дома и всё же выстрелил прямо на улице около домов прямо в него — «Я Лёньку-то еле только успела убрать! Батюшки, сердце так и ёкнуло! Кричу: что ж ты, изувер, делаешь?! — дети ж тут играют! А он — сидит у оградки — глаза налитые: „Убью!“ и „Убью!“, и всё тут!» — как-то чиркнуло и рассекло кожу на лбу. Потом приехала из района милиция, и ушлый наш Сажечка ещё отстреливался, бегая от них огородами… Потом года полтора и отсидел за свою — уже неоднократную — дурь.
Теперь он приказал сотоварищу: «Садись в трактор — отвлекай! А я пока домой напрямки (наперерез, через речку — если по льду или вброд довольно близко) за обрезом сбегаю! Убью, падло! Отомщу за всё! Всю кровь мою высосал, собака, фашист, рундук еврейский!» — опрокинул полстаканища и правда погнал!
— Санькя, не надыть можть… Там жа ж и Серёжка-то!.. с ним в кабинке…
— А нех…й фашисту пригузничать! Порешу всех! Не будешь — и тебя! Гони!
И погнали. Генурки был пьян в раздуду, но всё равно при помощи товарища влез в трактор и даже тронулся. Сажечка, возбуждённый до такой степени, что его всего трясло от злости и он мог ещё проявлять, будто трезвый, чудеса резвости, пустился, как в молодости, бегом на зада, потом в низа — наперерез.
Генурки, который кое-как ехал незнамо куда, на полнейшем автопилоте, вместо того, чтоб отвлекать, буквально пошёл в лобовую… Когда на краю пашни «Камаз» дал по тормозам, открылась дверь и выпрыгнул Белохлебов с ружьём, тут же открылась и дверь МТЗ и во взбудораженную почву свалился Генурки. Он было даже побёг по пахоте, но уже через дюжину шагов на его ноги, и так нетвёрдые, тут же налипли «лапти» — по несколько кило земли на каждую — и он упал.
Слёзно умоляя: «Дядь Лёнь, прости! Не стреляйте, пожалуйста! Я за вас!», он буквально полз на коленях по пашне обратно, пока не уткнулся лбом в дуло ружья, а руками всё пытался обнять Белохлебовские сапоги, грязный, как чёрт…
— Ты-ык, сука… — процедил Белохлебов.
— Дядь Лёнь, прости! Я всё раскажу! Всё отработаю!
И вскоре они уже втроём мчались наперерез бежавшему наперерез.
Искомый объект был настигнут в тот миг, когда он переправлялся вброд. По приказу главного Серёжка врубился на «Камазе» в речушку. Сажечка, в шоке, в волне брызг, отпрыгнул в сторону — прямо в воду! До этого он шёл только «по яйцы», а теперь окунулся прямо и «с головкой»!
Под ружейным дулом и несусветным матом Белохлебова его помощник всё же выбрался на тот берег. Тогда тут же из машины был вытолкнут Геннадий Коновалов, который наподобие охотничей собаки, по-собачьи резво по-собачьи переплыл ручеёк, и опять ползя на коленях, схватил за сапог уже Сажечку.
— Что ж, Санькь, такая уж жызня у нас собачия… — как бы извиняясь приговаривал он, извиваясь по куге и грязи. Сажечка, в отяжелевшей от воды одёже, тоже упал, что-то барахтался, и так и не встал.
— Держать! — выкрикивал Белохлебов. Серж смеялся и, потешаясь, несильно вторил: «Взять! Ату его!»
Только через полчаса юный водитель смог вырулить на другой берег.
Когда главный фермер ступил на твёрдую почву, он начал уже вторую за сегодняшний день экзекуцию.
— Не бойсь, не бойсь, держи — тебя не буду! — провогласил он и начал мутыскать оклемавшегося уже поморника, а под конец даже содить в пинки, всё нравоучения ради причитая и всё же довольно часто как бы невзначай попадая и по второму.
Вскоре устал.
— Пусть тут и остаются, — сказал он. — Давай, командир, шей домой.
И они уехали.
1 Истисовать (истесовать) — исчиркать, испачкать (диал.)
2 Прибасать — ухаживать; прибаснуть — выпить (диал.).
3 Благой — сумасбродный (диал.).
4 Туразить — преследовать, бегать за кем-то, пугать (диал.).
Ода соловью
- Кейт Аткинсон. Жизнь после жизни. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 544 с.
Есть такая птичка, которой кажется, что с заходом солнца она умрет.
А утром она просыпается, потрясенная тем, что еще жива.
И начинает петь самую прекрасную песню.Гас Ван Сент «Не сдавайся»
История популярной английской писательницы Кейт Аткинсон о «зациклившейся» девочке Урсуле, которая раз от раза проживает свою жизнь, неизменно рождаясь 11 февраля 1910 года, сначала напоминает набор черновиков. Такое количество отрывков с примерно одинаковым развитием событий и разными развязками, кажется, свидетельствует о том, что автор просто не знал, как начать, и аккуратно выписал несколько вариантов.
Некоторое время спустя становится ясно, какую игру затеяла Аткинсон.
«Все вокруг почему-то знакомо.
— Это называется „дежавю“, — объяснила Сильви. — Обман памяти. Память — это бездонная тайна.
Урсула якобы помнила, как в свое время лежала в коляске под деревом.
— Нет, — возражала Сильви, — человек не может помнить себя в младенческом возрасте.
Но Урсула-то помнила: листья, как зеленые ладошки, машут ветру; под капюшоном коляски висит игрушечный заяц, он вертится и приплясывает у нее перед глазами».
Полагая, что у ребенка чрезвычайно живое воображение, и воспитывая, помимо Урсулы, еще дочку и двоих сынишек, Сильви не придает особенного внимания болезни девочки и довольствуется несколькими визитами к психиатру. Урсула же, несколько раз случайно умерев, начинает пусть не всегда хорошо, но ориентироваться в пространстве и предсказывать будущее.
Мнение о том, что Кейт Аткинсон прознала тайну роулинговского маховика времени, недалеко от истины. Урсула вынуждена появляться на свет и умирать, исправляя свои и чужие ошибки, чтобы протянуть на земле чуть дольше, чем в предыдущий раз. По словам Томаса Элиота, жизнь слишком длинна. Что бы сказал классик, если бы узнал, что, умерев в 76 лет, он вновь родится и попадет практически в те же обстоятельства? Иными будут лишь детали, другой кусочек торта в кафе, например.
Однако, несмотря на невероятность описываемого, которая ощущается лишь спустя много дней после прочтения книги, Аткинсон отчетливо дает понять: происходящее с нами в реальности в девяноста процентах случаев от нас и зависит. Желания начать жизнь с чистого листа не возникает, но мысль постараться изменить все то, что много лет не дает покоя, — еще как!
Аллюзии на произведения великих, пронизывающие текст, не слишком-то легко распознаются русскими читателями. Влюбленная в британских классиков вроде Роберта Бернса, Джона Китса и Кеннета Грэма, автора сказочной повести «Ветер в ивах», Кейт Аткинсон и главную героиню романа наделяет страстью к литературе и способностью цитировать наизусть отрывки из произведений.
Переехав из одного города в другой и распаковывая коробки, Урсула «обнаружила Данте в красном сафьяновом переплете — подарок Иззи, под ним томик стихов Джона Донна (ее любимый), поэму „Бесплодная земля“ (библиографическая редкость, первое издание, зачитанное у Иззи), полное собрание Шекспира под одной обложкой, милых ее сердцу поэтов-метафизиков и, наконец, на самом дне коробки — предписанную школьной программой потрепанную книжку Китса с надписью: „Урсуле Тодд за успехи в учебе“».
После гибели брата Тедди во время боевых действий Второй мировой войны Урсула, знающая, что время не циклично, оно «новые письмена поверх старых», берется за мел судьбы. Уснув в 57 лет, дожить до которых в ее случае — большая удача, женщина перерождается вновь во имя любви к брату, которая оказалась сильнее жизни и уж точно сильнее смерти, имеющей в этой книге ограниченные права.
По мнению Сильви, «мука мученическая — произвести на свет ребенка. Доведись ей самой создавать род человеческий, она бы устроила все совершенно иначе. (Для зачатия — золотой луч света в ухо, а девять месяцев спустя — разрешение от бремени через какой-нибудь скромный ход.)» Хорошо, что мать Урсулы даже не подозревала, сколько раз рождалась ее дочь. А еще лучше, что никто из нас ни о чем таком не подозревает.
Это он – Лев Рубинштейн
Один из основателей московского концептуализма, поэт, изобретший стихи на библиотечных карточках, а ныне известный эссеист Лев Рубинштейн празднует 67-летие. В день рождения писателя «Прочтение» публикует видеозапись его выступления с поэмой «„Это я“» и литературоведческий разбор названного текста.
«„Это я“» (1995) — последнее каталожное произведение Льва Рубинштейна 1990-х годов. Композиция поэмы воспроизводит большой семейный альбом или, точнее будет сказано, стопку старых фотографий. Уровень автобиографичности здесь довольно высок: мы находим упоминание родителей, брата, соседей и близких, четкое описание исторической эпохи (даты: 1952, 1940, 1954). Снимки архива, однако, невидимы: взамен фотографий нам показывают их обратную сторону — белую основу с комментарием, кого или что изображает данный кадр.
Сдержанное перечисление людей, находящихся на групповой фотографии, с подразделением на тех, кто стоит, и тех, кто сидит, перемежается отступлениями лирического характера.
15.
Лазутин Феликс.
16.
(И чья-то рука, пишущая что-то на листке бумаги.)
17.
Голубовский Аркадий Львович.
18.
(И капелька дождя, стекающая по стеклу вагона.) <…>
21.
Кошелева Алевтина Никитична, уборщица.
22.
(И беззвучно шевелящиеся губы телевизионного диктора.),
а также последующие тридцать фрагментов оказываются экспликацией того, что не в состоянии зафиксировать фотоаппарат. «Мимолетные виденья» становятся объектами созерцания и бережного хранения в каталоге памяти.
Очевидно, что логически они никак не соотнесены с соседними именами, графика текста прямо указывает на их вторичность, «вынесенность за скобки». Однако именно несовместимость фрагментов придает визуальному ряду поэтический оттенок, делает необычным восприятие, по сути, вполне тривиальных моментов, с которыми читатель неоднократно встречался в своей жизни. Впрочем, стоит вернуться к тому, что перед нами альбом фотографий, в котором наряду с изображениями мест и людей можно найти засушенный лист, цветок или срезанную прядь волос — те незначительные с точки зрения стороннего человека предметы, которые вызывают во владельце альбома определенные воспоминания и чувства.
Картотека Рубинштейна является таким реестром памяти с одной оговоркой: поэт коллекционирует не образы или вещи, но интонацию, личное отношение воспринимающего субъекта к ним. Текст поэмы все больше напоминает симфонию, развитие которой сопровождается последовательным вступлением в игру новых партий, — именно последняя из них вносит в ритмический рисунок классический размер — четырехстопный ямб:
36.
Толпыгин Г. Я.
37.
И мы видим заплаканное лицо итальянской тележурналистки.
38.
И надпись: «С тех пор прошло немало лет, а ты все тот же, что и был, как некогда сказал поэт, чье даже имя позабыл» <…>
51.
Замесов В. Н.
31.
И мы видим детский пальчик, неуверенно подбирающий на клавишах мелодию шубертовской «Форели».
53.
И надпись: «Терпенье, слава — две сестры, неведомых одна другой. Молчи, скрывайся до поры, пока не вызовут на бой».
В мелодии текста начинает «вызвучиваться» одна нота — нота тревоги. Прозаические и метризованные фрагменты так или иначе варьируют мотив боли, слабости. Процесс поиска автоидентичности неизменно сопровождается трудностями и испытаниями: герой проходит некий обряд посвящения, после которого ему откроется ответ на главный жизненный вопрос: «Кто я?».
Впрочем, готовность «я» к переменам совсем не очевидна. Герой пытается осознать деформирующуюся реальность, достигнуть ее черты, предела, рубежа, но при этом не делает ни одного шага, будучи скован сомнениями. Беспокойство, сопровождающее Рубинштейна «и в детстве, и потом», так как «страх не исчезает, а лишь опускается все глубже и глубже», наполняет произведение «„Это я“», достигая эмоционального пика в карточках № 56–62 и претворяясь в тему душевной и телесной дрожи. Примечательно, что эта дрожь впервые охватывает персонажа-ребенка («И мы видим шесть или даже семь ярко-оранжевых таблеток на дрожащей детской ладошке») — главного объекта отождествления поэмы, и лишь затем резонирует в образах классической литературы:
56.
И тут наконец-то появляется большая серебряная пуговица на дорожном плаще молодого человека, едущего навестить умирающего родственника.
57.
И дрожит дуэльный пистолет в руке хромого офицера.
58.
И дрожит раскрытый на середине французский роман в руке молодой дамы.
59.
И дрожит серебряная табакерка в руке бледного молодого человека.
60.
И дрожит оловянный крестик в руке пьяного солдата.
61.
И дрожит большой серебряный самовар в руках пьяного военного врача.
62.
И слегка подрагивает блестящий клюв большой черной птицы, неподвижно сидящей на голове гипсового бюста античной богини.
Именно здесь выразилось уникальное рубинштейновское понимание самости как набора того, что «я» услышал, прочел, увидел, пережил. Личность героя создается в точке пересечения своего и чужого: чужих имен и имен родителей, цитат и прямых высказываний, — «я» осмысляется как хаомос, в котором сосредоточен весь мировой опыт, а потому «литературные образ(ц)ы судеб, причем, судеб в основном страдальческих, несчастных» (М. Липовецкий) из самостоятельных текстов превращаются в вариации драмы лирического героя.
При этом важно понимать, что перед нами аллюзии к классическим произведениям: начальный фрагмент вызывает ассоциацию с второй строфой первой главы «Евгения Онегина»; эпизод встречи князя Мышкина с пьяным солдатом, который продает князю свой «серебряный», а на деле оловянный нательный крест, отчетливо прочитывается на карточке № 60; наконец, завершается ряд книжных выдержек отсылкой к известному «Ворону» Эдгара Аллана По. Вероятно, руководствуясь тем фактом, что личная идентичность оборачивается коллажем заимствований и отражений чужого, Рубинштейн использует в заглавии поэмы кавычки — «я» тоже оказывается цитатой.
В факте мимикрии героя в окружающем мире выражено новое в условиях концептуального искусства понимание субъективности. Субъективности как «текучей, но всегда неповторимой комбинации различных элементов повторимого или „чужого“: слов, вещей, цитат, жестов, изображений и т.п.» (М. Липовецкий). Обретение себя в Другом спасает не только от «бури» или «жизненной катастрофы», слитность с Другим равнозначна бессмертию.
Подтверждением этих слов является одна из «надписей»: «Когда устанешь ждать беды в своем таком родном углу, запомни влажные следы на свежевымытом полу» («„Это я“»). Следы становятся метонимическим выражением социума, а сама память о нем уберегает от подступающей тревоги и страха. Здесь, как и в «Мама мыла раму», тема воспоминаний обрамляет лейтмотив: просмотр фотографий оказывается сродни воскрешению изображенных на них людей — так можно объяснить появляющиеся с 64-го фрагмента голоса, которые принадлежат именам с нижнего ряда группового снимка. Реплики персонажей входят друг с другом в диалог, содержат размышления о тайном смысле бытия и природе вещей, однако неизменно завершаются словами прощания и ремаркой «Уходит».
Репрезентация подписей к фотографиям меньше всего способствует полноценному раскрытию сюжета снимка и в большей степени демонстрирует ассоциативный механизм памяти — безличные детали и отрывочные мысли тянут за собой вереницу образов, из которых появляется «я»:
113.
А это я.
114.
А это я в трусах и в майке.
115.
А это я в трусах и в майке под одеялом с головой.
116.
А это я в трусах и в майке под одеялом с головой бегу по солнечной лужайке.
117.
А это я в трусах и в майке под одеялом с головой бегу по солнечной лужайке, и мой сурок со мной.
118.
И мой сурок со мной.
119.
(Уходит)
Ушедшее прорастает в настоящем, изменение места и времени действия не предполагает перемену в субъекте восприятия, на что прямо указывает стихотворная строка «С тех пор прошло немало лет, а ты все тот же, что и был». Нахождение в измерении детства дает автору возможность вновь и вновь вернуться к жизненному старту и осмыслить сюжет «самонаписания».
В одном из интервью Лев Рубинштейн отметил, что поэма «„Это я“» подвела черту определенному периоду его творчества и утвердила в решении «содержательным образом завершить свою картотечность». По словам автора, идея нон-фикшн разрабатывалась им с конца 1980-х годов путем внедрения «непосредственных автобиографических воспоминаний». Обращаясь к внешним реалиям, событиям личной и общественной жизни, выделяя из гула голосов один «авторский» дискурс, Рубинштейн сумел сконструировать тот характер субъективности, который сделал органичным переход от поэзии к мемуарной прозе.
Чтение по-сибирски
Снижение интереса россиян к чтению — тема, постоянно поднимаемая в СМИ. Рассуждая, кто виноват и что делать, участники дискуссий редко прибегают к точным цифрам. Ориентируясь на мнение чуть более тысячи жителей крупных городов Сибири, компания «Старт Маркетинг» сделала свои выводы.
Каждый десятый сибиряк читает литературу каждый день — сообщается в результатах исследования. Практически не читают или читают редко 64,5 % опрошенных. Только 35,5 % можно, по сути, назвать читающей аудиторией, хотя и среди них частота обращения к литературе сильно разнится.
Женщины более склонны к регулярному чтению, чем мужчины. Ежедневно или несколько раз в неделю читает 30,9 % представительниц прекрасного пола, тогда как среди мужчин эта доля составляет лишь 19,1 %.
В ходе исследования респондентов также просили назвать от одной до трех книг, которые изменили их отношение к жизни. Список книг-лидеров оказался весьма разнообразным: в него вошли и признанные шедевры, и современные бестселлеры, и даже литература по психологии.
Больше всего повлияли на сибиряков художественные произведения отечественных классиков, которых в ТОП-10 ровно половина. Причем два из них принадлежат перу Федора Достоевского («Преступление и наказание», «Братья Карамазовы») и два — перу Льва Толстого («Война и мир», «Анна Каренина»). Из иностранных авторов большинство сочли достойными Паоло Коэльо, Джоан Роулинг и Оскара Уайльда. Извечная борьба «духовного» и «материального» в сознании человека в некоторых частях списка книг-лидеров проявилась особенно ярко. Так, третью позицию в рейтинге «влиятельности» заняла «книга книг» — Библия, а восьмую — пособие по обогащению «Богатый папа, бедный папа». Другие книги, не попавшие в «десятку», но неоднократно упомянутые респондентами: «Три товарища» (Э. М. Ремарк), «Унесенные ветром» (М. Митчелл), «Идиот» (Ф. Достоевский), «Герой нашего времени» (М. Лермонтов), «Маленький принц» (А. де Сент-Экзюпери).
Всего в исследовании, проходившем в ноябре 2013 года, принимало участие 1192 респондента в возрасте от 18 до 40 лет.