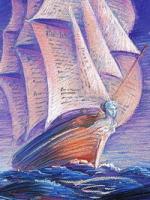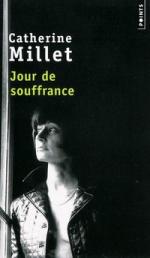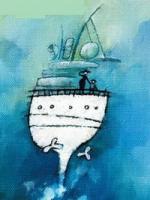Статья из книги Германа Садулаева «Марш, марш правой!»
О книге Германа Садулаева «Марш, марш правой!»
В Мае 1890 года профессор Саймон Ньюкомб (Simon Newcomb) опубликовал в журнале The North American Review любопытную статью, озаглавленную «Мыльные пузыри социализма» («Soap-bubbles of socialism»). Автор весьма убедительно и доходчиво критикует идеи и лозунги социальных реформаторов: «Вместо рассмотрения таких туманных вещей как богатство, капитал и капитализм, я настаиваю на рассмотрении только таких низменных вещей, как дома, кровати и бифштексы». И этих самых домов, кроватей и бифштексов, по утверждению профессора Ньюкомба, всё равно не хватит на всех, даже если поделить их поровну, либо по справедливости (что не всегда одно и то же).
Профессор выступает против даже 8-часовой рабочей недели, именно с таких, филантропических позиций: «Мы должны сокращать использование восьмичасовой системы, потому что, если мы уменьшаем строительство домов на 20 процентов, то, несомненно, в следующем поколении будет труднее обеспечить бедных жильём».
Подводя итог своим размышлениям, Ньюкомб повторяет: «…согласно критикуемой мною точке зрения, проблема улучшения жизненных условий масс заключается не в производстве, а в распределении. Большинство думает, что производится достаточно и даже с избытком для всех, единственная трудность сводится к тому, что массы не получают своей честной доли». На самом же деле, как объясняется в статье на простых и наглядных примерах (с теми же бифштексами или одеждой) — основная проблема не в распределении, а в производстве. В недостаточном производстве необходимых человеку благ.
Да, одни позволяют себе гораздо более чем остальные. И далеко не всегда это оправдано их заслугами перед обществом. Но даже если отобрать всё, что составляет роскошь богатых — этого не хватит, чтобы вылечить нужду бедняков.
Потому что просто всего не хватает на всех.
В 1890 году профессор Саймон Ньюкомб был абсолютно прав.
Он был прав не только в 1890 году, но и на протяжении всей известной нам экономической истории человечества, насчитывающей тысячи лет.
Во все века и при всех социально-политических системах уровень экономического производства в человеческом обществе не позволял обеспечить комфортными условиями существования и пользованием известными к тому времени благами цивилизации всех членов общества, даже если бы распределение было максимально справедливым.
Просто потому, что еды и прочего было всегда мало.
А людей — много.
Люди век за веком научались производить больше еды, но себе подобных они всегда воспроизводили ещё больше, чем еды.
Английский экономист Томас Роберт Мальтус развил это положение в целую теорию, опубликовав в 1798 году книгу «Опыт о принципе народонаселения». Теория состояла в том, что население возрастает в геометрической прогрессии (1,2,4,8,16…), а производство средств к существованию только в арифметической прогрессии (1,2,3,4,5…). Следовательно, нищета неизбежна уже в силу естественного инстинкта размножения человека. И должна только усугубляться с ходом истории. Эту гипотезу впоследствии назовут «мальтузианством», а Карл Маркс, который вообще любил обзываться, охарактеризует книгу Мальтуса как «гнусный пасквиль на человеческий род».
Но, так или иначе, на протяжении столетий и столетий принцип Мальтуса действовал, и чем больше становилось людей, тем острее чувствовалась нехватка еды, жилья и одежды.
И уже золотым веком казались времена первобытного существования охотников и собирателей, которые находились в гармонии с природой, в состоянии гомеостаза, в экологическом равновесии со средой и вмещающим ландшафтом. Когда у каждого была и еда на углях костра, и шкура на бёдрах, и крыша хижины над головой.
Через много тысячелетий, человек, открыв новые земли, научившись земледелию и ремеслу, изобретя порох, паровую машину и прочая и прочая, а впоследствии и полетев в космос, и освоив ядерную энергию, да стоит ли продолжать… при всём этом человеческое общество пришло к тому, что значительной части его членов нечего есть, негде жить и не во что одеться.
Что было бы немыслимо для дикарей.
Но дикари брали всё необходимое непосредственно у природы! А современному человеку негде получить содержание, кроме как в обществе себе подобных.
Жан Жак Руссо, французский просветитель и большой друг российской императрицы, высказывался в том духе, что только в обществе возможно существовать праздно и роскошествовать. Следует добавить, что только в обществе возможно тяжело трудиться и бедствовать.
Природа не такова, природа относится ко всем с одинаковой любовью. Или с одинаковой ненавистью. Поэтому, если засуха, то погибают все. А если благоденствие, то никто не умрёт с голоду; ведь ни у кого природа не спросит ни денег, ни карточек, ни специального разрешения, чтобы сорвать созревший банан.
Поэтому, Мальтус всё же не прав, и нищета — явление, обусловленное не биологически, а социально.
Мы же отметим для себя, что не рассматриваем этот случай гармонии человека с природой, как не имеющий отношения к социальной проблематике. Опыт существования дарами одной только природы до сей поры можно воспроизвести, если только найти нетронутый уголок земли. Но мы говорим о пользовании не только дарами природы, а и всеми доступными на данной стадии развития благами цивилизации, что почти невозможно без включения в социальную жизнь.
Этих самых благ производилось перманентно меньше, чем было желающих ими воспользоваться.
Поэтому любые социалистические и коммунистические идеи были утопическими, неосуществимыми, и, даже более того, вредными для прогресса человеческой культуры. Действительно, если бы излишки благ не накапливались в руках аристократов и правителей, а равномерно распределялись между всеми жителями древних и средневековых государств, у нас до сих пор не было бы ни храмов, ни дорог, ни науки, ни поэзии; ничего, кроме мотыги и быков. Понятно, что только изъятые плоды народного труда смогли обеспечить развитие непроизводительной культуры. Иначе быть не могло! Даже странствующие монахи, святые и пророки могли появиться только там, где у купца или крестьянина оставалась после обеда краюха хлеба, которую можно пожертвовать нищему.
Коммунизм вроде бы остался в прошлом. В тех временах, когда гармония с природой уже была нарушена, во многом, по вине самой природы — условия стали чрезвычайно неблагоприятными. А экономика — присваивающая экономика племенного коммунизма — не давала вообще никаких излишков. Поэтому распределение было более или менее по потребностям. Другого выхода просто не было, иначе сообщество быстро погибало.
Как сообщество неандертальцев.
Неандертальцы были древними людьми, которые населяли Европу на протяжении сотен тысяч лет. Около сорока тысяч лет назад у них появились конкуренты — кроманьонцы, предки современного человека. В это же время наступило похолодание, вызванное ледником. И неандерталец вымер. А кроманьонец остался.
Причины исчезновения неандертальца не известны. Есть много гипотез. Но ясно, что и неандерталец, и кроманьонец к этому времени достигли пика биологической эволюции. С тех пор человек разумный физиологически не изменялся. Однако кроманьонец стал приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни с помощью социальной эволюции. А неандерталец, видимо, не смог.
Дитя природы, привычный к гармоничным отношениям с окружающей средой и к экологически ответственной экономике, неандерталец обиделся на ставшую жестокой, холодной и жадной мать-Европу и от обиды вымер.
А кроманьонец легко нарушил завет, договор с природой, о гармонии и гомеостазе. Стал хищнически использовать ресурсы. За считанные тысячелетия перебил на мясо и шкуры всех мамонтов, а, кстати, и неандертальцев съел, выжил из пещер саблезубых кошек, пожёг гектары и гектары лесов, заставил лошадей возить себя, а быков — свои пожитки. Изменил ландшафты и создал собственную искусственную среду обитания. В общем, вёл себя как браконьер и вредитель. И выжил. По крайней мере, уже прожил на несколько тысяч лет дольше, чем неандерталец.
Но не только дерзкое отношение к природе стало фактором успеха нового человеческого общества. А ещё и социальная эволюция, как говорилось выше. Военный, племенной, первобытный коммунизм — вот что спасло человека от исчезновения. В условиях катастрофической нехватки самых необходимых средств к существованию, в человеческих племенах, по-видимому, было налажено строгое централизованное распределение. И молодые, сильные охотники, и самые умелые собирательницы, получали на общей трапезе примерно равную долю с менее удачливыми, детьми, больными и старыми. Иначе общество невозможно. Цивилизация начиналась с пенсионной реформы: то есть, когда стариков перестали съедать, а стали кормить частью добычи, принесённой молодыми.
(Хочу сделать оговорку, что, приводя примеры из первобытной истории, я вовсе не утверждаю, что в далёком прошлом всё было именно так. Как было, я не знаю. Это всего лишь иллюстрации к идеям, которые я излагаю в тексте. Может, на самом деле, не было ни эволюции, ни мамонтов, ни ледника, а был Ноев ковчег и потоп, или Сатья-Трета-Двапара-юги, или Времена Счастливой Охоты, или Рождение Ктулху).
Возвращаемся к нашим баранам. То есть, к овцам. То есть, к коровам, из которых делают бифштексы, а также к кроватям, домам, одежде и прочим благам природного и промышленного происхождения.
Мы можем разделить историю человечества на этапы. Тогда мы станем совсем как ученые, потому что ученые любят разделять, и особенно на этапы. Чтобы было совсем похоже на науку, мы используем латинские цифры:
I. Потерянный рай или Первобытный либерализм.
Эпоха любовного согласия с природой. Ресурсов неограниченное количество, единственным необходимым трудом являются усилия по их присвоению: то есть, банан надо сорвать и съесть. Делать запасы, накопления нет никакого смысла. Всё есть вокруг и есть всегда. Овощи и фрукты по сезону, мясо по графику миграции зверей. Как говорится, молоко можно хранить в корове. С другой стороны нет и технологий хранения и накопления. Человек приучается естественным образом вести себя экологически ответственно и ограничивать своё потребление разумными мерками, а изъятие у природы её даров — рамками потребления. Бананов срывать нужно ровно столько, сколько собираешься съесть сейчас, а зверя бить только когда желаешь его зажарить.
В этот период вмешательство социальных факторов и регуляторов в экономику минимальное. В идеологии господствует оголтелый либерализм:
Почему ты так странно на меня смотришь? Потому что у меня два банана, а у тебя ни одного? Всё правильно, я сильный и ловкий, поэтому у меня два банана. Я их сорвал. А ты не завидуй, ты пойди и тоже сорви себе бананы! Ты не можешь? Тебе лев откусил обе ноги, когда ты защищал от клыков взбесившегося хищника детей нашего племени? Ну что же, нету ног — нету бананов. Это, братец, свободная экономика!
Почему рай был потерян? Причин могло быть несколько. Например, в Европе природа стала скудной из-за похолодания (ледник!). Людей стало слишком много (Мальтус!). В ту же экологическую нишу припёрлись кроманьонцы (гастарбайтеры!).
В холодной войне (было действительно очень холодно) между либеральным мировым сообществом неандертальцев и коммунистическим интернационалом кроманьонцев, тогда победил коммунизм. Таким образом, в прошлом столетии либеральная идея просто брала реванш за поражение доисторической давности.
Экономисты давно отметили, что либерализм может существовать только в тучные годы, во времена относительного благополучия. В годину испытаний либеральная система оказывается совершенно непригодной и заменяется централизованным регулированием и распределением.
II. Царство Справедливости или Неолитический социализм
Здесь всё просто. От каждого по способностям, каждому ровно столько, чтобы не сдох с голоду. Больше всё равно нет.
III. Наше Жестокое Время или Эпоха Пэрис Хилтон
Ледник отступил, аборигенов съели, приручили коров, научились возделывать землю. В общем, стали производить больше, чем можно сразу употребить. Излишки стали присваиваться эксплуататорскими классами. Которые поэтому сразу поняли, что они эксплуататорские. И стали эксплуатировать все остальные. Об этом есть подробно у Фридриха Энгельса в его работе «Происхождение семьи и частной собственности» и в трудах Карла Маркса, конечно.
Но там очень сложно, и про формации, которые сменяют друг друга — рабовладельческий строй, феодальный строй, капиталистический строй. А есть ещё отдельно стоящие азиатский способ производства и российская разруха (это из-за татаро-монгольского ига, ну, вы знаете). И разные фазы-стадии.
Мы решили попроще, всё это вместе назвать по имени Пэрис Хилтон. То есть, система, при которой производство благ по мере прогресса максимально отделяется от потребления оных. И производят блага одни, а потребляют, наоборот, совсем другие. Например, Пэрис Хилтон. Так, я думаю, всем будет понятно.
В рамках эпохи ПХ в разные периоды и в разных странах более или менее либеральные модели сменяют более или менее социалистические, подобно качанию маятника. Но возврат ни к абсолютному либерализму природного рая (закон джунглей! Йо-хо!), ни к золотому веку пещерного социализма (жрите братки, это на всех!), в полной мере уже не возможен.
Потому что:
- природные ресурсы относительно потребностей человечества ограничены;
- присвоение ресурсов в той или иной степени социализировано;
- кроме естественных природных ресурсов человек приучил себя к т.н. благам цивилизации, которые не могут быть получены непосредственно у природы;
- производство и распределение организованы так, чтобы изымать излишки в пользу господствующего меньшинства;
- излишками считается столько, сколько решит господствующее меньшинство, даже если подвластное большинство отдав излишки помирает с голоду;
- в силу предыдущего пункта, если излишков нет совсем, то господствующее меньшинство всё равно изымает излишки, потому что ну, в самом деле, не должна же Пэрис Хилтон отказывать своей собачке в новом брильянтовом колье только потому, что засуха сгубила на корню все посевы фермеров, скот пал от ящура, рыболовецкие сейнеры потоплены штормами, финансовый кризис обесценил вклады населения, пенсионный фонд лопнул и большая часть трудоспособного населения планеты погибла в третьей мировой войне!
А теперь разберём возникшее логическое противоречие. Итак, с одной стороны, излишки есть. Не будь излишков, мы оставались бы в пещерном веке, жили бы при коммунизме, иначе никак.
С другой стороны, как убеждает нас Саймон Ньюкомб, даже если взять всё и поделить (резюме писем Энгельса Каутскому, Шариков), то на всех всё равно не хватит. То есть, никаких излишков нет, а есть нехватка.
Мы вынуждены констатировать диалектическое сочетание данных утверждений и их одновременную истинность. На протяжении веков и тысячелетий совокупный продукт всей человеческой экономической деятельности поделенный на всех людей поровну обеспечивал бы в лучшем случае самые простые биологические потребности, физическое выживание, но не социальные блага, не достижения цивилизации, не развитие культуры. И только меньшинство, изымая некоторый излишек от биологического прожиточного минимума масс, могло позволить себе быть цивилизованными и принимать на себя миссию продвигать и технологии, и непроизводительные отрасли культуры.
Это было жестокое время, и мы нисколько не оправдываем эксплуататоров такой вот исторической необходимостью. Эксплуататоры справедливо получали своё воздаяние на копьях восставших рабов, рогатинах бунтующих крестьян и на гильотинах революций. Мы всего лишь объясняем. Объясняем — не значит оправдываем. Возможно, человечеству и не нужны были многие артефакты, созданные потом и кровью, ценой свободы, жизни и счастья тысяч и миллионов людей — как, например, жуткие и бессмысленные египетские пирамиды.
Но, что было, то было. И было именно так.
Перед человечеством тысячелетиями стояла задача: повысить производительность экономики, эффективность труда, увеличить количество производимых благ. Чтобы однажды хватило всем.
И тогда можно будет разделить поровну.
Карл Маркс тоже понимал это. И ставил как необходимое условие коммунизма достижение высокого уровня развития производительных сил. Иначе, даже если всё справедливо поделить, всё равно не хватит, все будут равны, но равны в нужде и нищете, а нужда плохой учитель, мы это все узнали и увидели.
Сначала нужно было развить науку, технику, экономику.
И человечество впряглось в эту гонку. Одна система сменяла другую. В конкуренции выигрывала та, которая обеспечивала наибольшую мобилизацию людей для повышения производительности труда. Поэтому в Средневековой Европе рабство сменилось феодальной зависимостью: с крестьянина, закреплённого на клочке земли, можно было взять больше, чем с раба. Когда рабы снова стали эффективны — на плантациях в Новом Свете — просвещенные и образованные европейцы ничтоже сумняшеся вспомнили рабовладение и навезли из Африки негров.
Советский Союз проиграл экономическое соревнование в 60-80-е годы прошлого века потому, что население капиталистических стран было лучше мотивировано больше и эффективнее работать! Это сейчас мы поняли, что жили за пазухой у коммунистической партии. Могли днями бить баклуши, читать диссидентов, ругать на кухне советскую власть, и при этом иметь и квартиры, и машины, и дачи, и еду на столе — всё не лучшего качества, но сами же такое дерьмо производили! Один любитель Набокова конструировал в КБ завода негреющий утюг, другой поклонник Высоцкого клеил на фабрике кургузые ботинки. Потом они обменивались через зарплаты и систему советской торговли продуктами своего труда, и обувщик получал плохой утюг, а утюжник — неудобные ботинки. А виновата была во всём, конечно, советская власть!
Теперь нам не до поэзии Серебряного века и не до творчества белогвардейских эмигрантов. Нам бы дотащить тело до телевизора вечером. Мы вкалываем как проклятые, чтобы отдать банкам деньги за самые насущные жизненные блага, которые раньше получали от государства даром, а теперь можем иметь только в кредит, под залог всей своей жизни, свободы и здоровья!
Капитализм сегодня — это сложная система, которая с помощью товарного фетишизма, социальной стратификации, идеологии консумеризма и прочая, и прочая, и прочая, обеспечивает наиболее полную мобилизацию трудового ресурса. То есть, человек при современном капитализме сам заставляет себя вкалывать так, как никакой рабовладелец или секретарь парткома не смог бы его заставить.
Счастлив ли при этом человек? Конечно, нет. Человек как биологическое существо счастлив, когда он, например, много занимается сексом. В одной из самых богатых и развитых стран мира, в Японии, пары занимаются сексом всё меньше и меньше. Зато самоубийством люди заканчивают свою жизнь всё чаще и чаще. Человек как социальное существо счастлив отношениями и социальными связями с другими людьми. В мегаполисе, сердце современной экономики, люди не знают своих соседей, не встречаются с родственниками, семьи распадаются, каждый загнан и одинок.
Так за что же мы боролись и ради чего?
Мы полагаем, что в качестве цели этого мегаисторического потогонного проекта была идея: вот сделаем много всего, чтобы на всех хватило! Тогда поделим, и будем счастливо жить…
И вот.
Мы, наконец, добрались до финала нашего эссе.
До его вывода.
Который может быть записан без слов, одними цифрами:
65 820 000 000 000 : 6 670 000 000 = 9 868,07
Первая цифра — это валовый мировой продукт за 2007 год в долларах по оценке Центрального Разведывательного Управления США. Вторая цифра — численность населения земли на февраль 2008 года.
Стало быть, на каждого землянина, включая неработающих пенсионеров и младенцев, приходится 9 868 долларов 07 центов в год. Мы в России больше привыкли оценивать месячный доход. Пожалуйста: 822 доллара 34 цента в месяц на каждого члена семьи. По актуальному курсу валют, это 22-23 тысячи рублей.
Holly shit! Срань Господня!
Это много.
Это действительно много.
Нет, это не то что бы роскошь, но этого достаточно.
Например, если взять семью (расширенную) из пяти человек: муж, жена, дедушка (бабушка), двое детей, то мы имеем на пятерых 110-115 тысяч рублей в месяц.
Знаете, вполне можно жить.
И не только выживать физически, но и получать доступ к благам цивилизации, к культуре, к полноценной социальной жизни.
Можно ли ещё больше?
Боюсь, что нет.
Конечно, 10 000 долларов на человека в год не обеспечивают образа жизни американского среднего класса: дом за городом, по автомобилю для каждого совершеннолетнего члена семьи, колледж и туристические поездки 2 раза в год.
Но такого уровня потребления для всех жителей земли не выдержит сама планета. По прогнозам экспертов, года через два в мире будет около миллиарда автомобилей. Нам уже нечем дышать. В день, когда на трассы выедут три миллиарда автомобилей, боюсь, мы все отравимся угарным газом.
Как бы мы ни форсировали экономику, ни мобилизовывали трудовой потенциал, у земли, места нашего обитания, есть свои пределы прочности. И мы не можем повышать производство бесконечно. Мы должны остановить гонку на уровне, который уже приемлем для жителей земли.
Что мы этим хотим сказать? Неправда, что социализм устарел, что эта идея осталась в прошлом, что это пройденный этап истории человечества — 20 000, или 20 лет назад. Напротив. Только сейчас социализм стал актуален как никогда.
Только сейчас мы, наконец, производим столько общего продукта, что если его правильно распределить, то всем хватит!
До этого требования социалистического распределения были вредными утопиями. Но сегодня — это не только возможно, но и необходимо.
Уже всем всего хватит.
Поэтому мы должны применять социалистическое планирование и распределение. У либеральной экономики, у свободного рынка нет и не может быть механизмов, которые распределят нагрузку на планету и получаемые блага разумно и ответственно. Невидимая рука рынка хватает всё, что плохо лежит и пихает себе за пазуху. Не понимая, что ворованные сокровища превращаются в ядовитых скорпионов. Только сознательная, сознающая, а, следовательно, социалистически ориентированная мировая экономика способна приступить к решению глобальных задач.
Будущее человечества — это социализм.
Другого будущего нет.