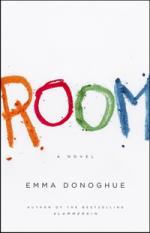Отрывок из книги Елены Чижовой «Терракотовая старуха»
О книге Елены Чижовой «Терракотовая старуха»
По утрам я приезжала в офис, усаживалась в приемной. У меня не было ни обязанностей, ни места.
Время ползло сонной мухой — на стеклах оставались
следы.
Казалось, Фридрих про меня забыл. Или — я обмирала от этой мысли — уже сожалеет о своем предложении,
считает его скоропалительным. «В ваших услугах я не
нуждаюсь». Я пыталась представить себе, как он выходит из кабинета и объявляет о своем решении, подбирала достойные ответы — то грубые, то более-менее вежливые, но про себя знала точно: если это случится, я не
найдусь с ответом. Просто встану и уйду.
Секретари ведут себя сдержано. Блондинка, впрочем, приветливее: улыбается, наливает кофе. Брюнетка
не замечает в упор. Иногда я предлагаю свою помощь:
«Может, полить цветы?» Мне неизменно отказывают —
вежливо, но твердо. Все цветы политы накануне.
Брюнетка уехала с поручением. Мне надо воспользоваться случаем, попытаться наладить контакт. В конце
концов, мы обе — женщины. У женщин всегда найдутся
общие темы. В Древнем Египте была традиция: знакомясь, женщины рассказывали друг другу о своих родах.
Торнтон Уайлдер. Мартовские иды.
«А кем вы работали раньше?»
«Инженером-технологом в НИИ, — Елена отвечает
охотно. У нее красивое лицо: голубые глаза, нежная матовая кожа. — Попали под сокращение — и я, и муж. Начальство освобождало комнаты, чтобы сдать частным
фирмам…»
Могу себе представить: еще вчера они вскакивали,
как встрепанные, глушили верещанье будильников.
К автобусу, с эскалатора на эскалатор, бегом — до проходной. Лишь бы успеть, расписаться, поставить росчерк в засаленной книге. Ровно в девять ее унесут как
добычу, вырвут из опоздавших рук. Теперь этой книги
нет. Осталась только шариковая ручка. Повисла на замызганном шнурке.
Их прежняя жизнь пахла конторским клеем, затхлыми стеллажами, заставленными картонными папками.
В стеллажи въелась советская пыль: безделья, политинформаций, болтовни о тряпках, примерок в женском
туалете, картофельной вони овощебаз, копеечных
профсоюзных взносов —
месяца. Анекдотов, которые травили в курилке…
«Мы же не знали. Думали, все образуется. Директор
скрывал до последнего… Вам с сахаром? — Елена размешивает растворимый кофе. Подает мне чашку, подсаживается поближе. — Мне повезло. А муж… Пока безработный. Сидит дома, следит за сыном. Нашему сыну
двенадцать», — она поправляет светлые волосы.
Скорее всего, ее муж — из однокурсников. К третьему курсу отпустил бороду, ходил с рюкзаком, бренчал
на гитаре:
Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены…
«А вы?»
Теперь моя очередь рассказывать.
«Преподавала в институте. Русский язык. А Катерина?»
«На фабрике. Инженером-нормировщиком».
У брюнетки тоже дочь. На лбу печать напряженного
одиночества. Для дочери она наняла бонну — очень приличная женщина, бывший университетский преподаватель. Недавно вышла на пенсию. Ее дочери повезло: сидела бы на продленке, а так ходит по музеям.
«Ой, слышите? — Елена прислушивается испуганно. — Кто это?..»
В коридоре чужие голоса…
«Может, радио?»
Я иду за нею следом. В коридоре пусто. Если не считать охранника, который сидит у входной двери.
Мы заглядываем в кухню. Тоже никого. Повариха
уже ушла. Все убрано. На столе — перемытая посуда:
стопка тарелок, чашки кверху дном на полотенце… Теперь я их слышу — слабые голоса. Откуда-то сбоку, как
будто проникают сквозь стену. «А там что?» — я показываю на дверь. — «Ничего… Черная лестница». — «Может, соседи?»
Елена качает головой: «Давно расселили. В доме
больше не живут. Ой, кажется, телефон!» — она бежит
обратно. На свое рабочее место.
Я осматриваю помещение. Квадрат от бывшей плиты, три кухонных стола — от них остались следы, не зашарканные половой тряпкой.
Так просто не расселишь. Днем они отсиживаются за
стенкой. По ночам возвращаются в свои комнаты, заставленные нашей офисной мебелью. Переодеваются
в домашнее, выходят в кухню, разогревают ужин.
Тетка в синем фланелевом халате. Стоит у бывшей
плиты, шевелит картошку. Картошка с котлетами —
теплый мясной запах.
Семья садится к столу. Хозяйка вносит чугунную
сковородку, ставит на стол. На столе — рабочий беспорядок: ведомости, черновики договоров. Они не замечают. Ставят тарелки на наши бумаги. На бумагах остаются жирные следы…
«Это Евгений Фридрихович, — Елена заглядывает
в кухню. — Будет вечером. Сказал, чтобы вы дождались».
Бывшие жильцы исчезают, не проронив ни слова.
Я возвращаюсь на свой пост.
По вечерам он принимает доклады — в порядке живой очереди. Начальники отделов собираются загодя,
томятся в приемной. Очередь продвигается медленно.
Заранее никогда не угадаешь — сегодня кому-то хватает
минут десять, завтра зависнет часа на полтора. Героини
вестерна работают как в хорошем ресторане: до последнего клиента.
Сегодня этот клиент — я. На часах — половина одиннадцатого.
Катерина появляется в дверях кабинета: «Татьяна
Андреевна, вы можете зайти».
Фридрих роется в бумагах. Трет переносицу, зажигает настольный свет. «Вас не затруднит погасить люстру? К вечеру устают глаза».
По стенам развешаны дипломы. В прошлой жизни он
работал архитектором, руководил мастерской.
«Вот, — он протягивает картонную папку. — Остальное у водителя».
Из Финляндии едет оборудование. Машина прибывает завтра. Моя задача — растаможить. Я не знаю
этого слова.
«Это значит — получить разрешение. Оформить временный ввоз».
«Почему временный?» — «Потому что пошлина
меньше. Если платить по полной — останемся без порток. Да и вообще… — он ломает целую сигарету, —
черт! — сметает на пол, — государство и так неслабо
поимело…»
Тут наши позиции совпадают целиком и полностью.
Проклятые сойки склевали до последней крошки. Мое
личное прошлое. Годы, переведенные в рубли…
* * *
Третий день я обиваю пороги. Машина ждет во дворе. Сопроводительные, учредительные, спецификации… Таможенные девочки дают объяснения. От их
объяснений ссыхаются мозги. Документы, подписи, печати… По ночам я бьюсь в паутине: тонкие липкие нити. Я ворочаюсь, сбивая одеяло. По утрам просыпаюсь
как в коконе. За ночь успели оплести.
Водитель приезжает дисциплинированно. Его простой оплачивается отдельно. Он помалкивает и курит
во дворе. Нерастаможенные водители дожидаются своей очереди: сидят на пустых ящиках, травят дорожные
байки. Таможня — гавань, куда заходят их корабли.
Фридрих несет убытки. Но это — не главное. Главное
в том, что гусеница превращается в куколку. Мне уже
трудно ходить. С каждым днем все труднее. Этого никто
не видит. Еще день, и я не встану, просто не сдвинусь
с места. Больше всего мне хочется забиться. Под ящики, головой в пыль…
На четвертый день я упираюсь лбом в стену: для
оформления таможенной декларации нужен одиннадцатизначный код. «Образцы документов представлены на
стенде. Ваш девятизначный не подходит», — таможенная девочка возвращает мне папку. Я втягиваю голову
в плечи: «А где… его взять?» — «Не взять, а получить, —
она называет организацию, кивает на стенд. — Там все
написано».
Стенд занимает полстены. Неповоротливая черепаха
ползет вдоль плинтуса, пересчитывая цифры: вот он. Его
выдают на гербовой бумаге. Срок оформления — месяц.
Елена слушает сочувственно. Катерина стучит, не
поднимая глаз от клавиш. Я дохожу до кульминации:
одиннадцатизначный код.
«Им нужен подлинник?» — Катерина снимает руки
с клавиатуры, выпрямляет спину. В ее глазах тлеет
опасливая настороженность. «Нет, сказали, можно
и копию». — «А старый подлинник?» — «Есть», — я роюсь в папке, нахожу гербовую бумагу. «Ну, так в чем же
дело? — она бросает презрительно. — Вон он, ксерокс —
в углу».
Куколка силится понять, извивается убогим телом.
На ксероксе копируют документы. Героини вестерна не
видят моих мук. Для них — простая задачка: из пункта
А в пункт Б.
Катерина склоняется над клавишами, печатает, выводит на принтер. Усмехается. Подает мне.
Одиннадцать цифр. Моя рука дрожит. Я боюсь вырезать криво. «А вдруг — уже чей-нибудь?» Героини вестерна переглядываются. Я понимаю: им смешно. Париться о чьем-то коде, когда все вокруг ничье.
Сносная копия выходит с третьей попытки. «Вот».
Я демонстрирую дело своих рук. Рано или поздно мой
обман вскроется. Когда получу подлинник, его сличат
с подделкой. Когда-нибудь, но не теперь. Куколка, запертая в трусливом коконе, рвется на свободу.
Она вырвется через два часа, когда таможня примет
ничью копию и поставит окончательный штамп.
Обратно я прилетаю на крыльях. «Девочки, — порхаю у порога, — вы гении!» — «Да ладно, — Катерина отмахивается, — науґчитесь. Кстати, а почему вы не ходите обедать?» Во-первых, не приглашали, во-вторых…
«Здесь, — она понимает правильно, — обеды бесплатные. Фридрих Евгеньевич вносит от себя…»
Это выражение я встречала у кого-то из классиков. Я пытаюсь вспомнить: женщины, живущие от
себя…
Теперь мы надеемся прожить от Фридриха. Пока
что выходит не очень: запеканки, пирожки, драники.
Яна проявляет чудеса изобретательности. В «Работнице» целая подборка: блюда из муки и картофеля. Я ищу
оправдание: «Может, просто забыл». — «Господи, ну,
возьми и напомни».
Мои родители говорили: деньги — не главное. Мне
стыдно заговаривать о деньгах. Так было и раньше, с моими учениками.
Яна складывает пальцы в щепотку: «Ну, ты сравнила… Раньше! Детям, — ее щепотка ходит у меня под носом, — нечего жрать».
Раньше она бы себе не позволила. Сложить пальцы.
Теперь складывает и говорит: нечего жрать. Я понимаю: это от бессилия. С самого детства она привыкла полагаться на себя. Гордилась тем, что ни от кого не зависит: ни от спекулянтов, ни от материнского прошлого…
* * *
В конце месяца меня приглашают в бухгалтерию.
Против моей фамилии одна тысяча рублей. «Распишитесь». Спрятав глаза, ставлю закорючку: моя подпись
предательски дрожит.
Я иду по коридору, захожу, накидываю крючок.
В унитазе журчит вода. Сортир, провонявший гнилыми
трубами. Что же мне делать?.. Я согласна на любую работу — лишь бы хорошо платили. Янина мать мыла сортиры. «Вот, — я складываю пальцы, сую себе под нос, —
накося выкуси. Вот теперь и нюхай».
Катерина смотрит внимательно. У меня опухшие веки. Я оправдываюсь: «Страшно воняет в туалете. Прямо глаза слезятся… Наверное, аллергия». Елена вздыхает: «И, правда, хоть не ходи… Сто раз говорила». Катерина прячет усмешку: на говно аллергии не бывает,
во всяком случае, на человечье. Говорит: «Не знаю. Вася вчера смотрел». — «Нет, — Елена не соглашается. —
Мало ли что — вчера… Пусть снова посмотрит. Надо
ему напомнить».
Вот именно: пойти и напомнить.
Я не успела сказать ни слова.
«Прошу, — Фридрих отсчитывает бумажки. — Ровно
девять тысяч. В сумме — как договаривались. — Но, — он
подбирает слова, — об этом не стоит…»
Я понимаю: коммунальное прошлое закончилось. Теперь каждый за себя…
Вечером мы с Яной строим планы. Точнее, строит
она.
«Вот, — моя подруга пересчитывает тысячи. В который раз. — Зима на носу. Теперь, слава богу, ученые. Во-первых, — она загибает большой палец, — побольше мяса. Забить морозилку. — Про себя я отмечаю это странное выражение: будто морозильная камера — домашнее
животное, которое ведут на бойню. — Чай, крупы, консервы. Да, — она замирает с оттопыренным мизинцем, —
сахар. Слушай, ты не знаешь, а сыр может лежать?»
Можно подумать, я мышь. Всю жизнь собирала сырные
обрезки и складывала на черный день…
«Ну все. Пол вымою завтра. А Витька-то, представляешь, так бы и убила! Ботинки порвал, засранец». —
«Купи новые». — «Ты с ума сошла! Ботинки — четыре тысячи. Это сколько ж мяса?..» — Она шевелит губами, переводя ботинки в килограммы.
«Слушай, а это — точно?» — Яна разбирает диван.
«Что?» — «Ну, это… Будет так платить». — «Не веришь?» — «Верю. Еще как верю, — она шепчет истово. —
Если, конечно, не убьют». — «Меня?» — я уточняю равнодушно. «Да типун тебе на язык!.. Твоего Фридриха.
Слушай, а я ведь серьезно. Вон, по телику: то одного, то
другого. Я тебя умоляю. Если что, не лезь на рожон».
«Птичка моя, — хихикаю в подушку, — ты похожа на
жену комиссара». — «Я, — она не понимает юмора, —
уже ни на что не похожа… А эти, секретарши, они хорошо одеты?— Я не успела ответить. — Вот! Тебя тоже
надо одеть». — «Да я вроде бы и так…» — «Не-ет, — она
мотает головой. — Гардероб надо обновлять не от случая к случаю, а систематически. Я читала в журнале.
А твой Фридрих — хорошо одевается?» — «Так себе», —
я пожимаю плечами. «При капитализме все мужики
хорошо одеваются. Лучше, чем бабы. Значит, — делает
вывод, — еще не капиталист». — «А миллионы?» —
«Миллионы, — Яна отвечает без запинки, — говно. Сегодня есть, завтра — нет. Главное — психология… Ой,
забыла! Знаешь, кого я встретила? Светку Вострикову, из 10 „А“. Толстая, как квашня. Представляешь,
переехали. В переулок Грифцова. С евроремонтом.
Ничего себе! После их поганой-то Ульянки. Жаловалась: говорит, растолстела, даже шапка не лезет. Нормальные люди — задницей, а она, — Яна корчится от
смеха, — башкой!.. Они теперь с Постниковой. В школе грызлись, а тут, представь, подружились. На почве
шмоток».
«Каких шмоток?» — я переспрашиваю.
«Помнишь, у нее еще сестра-фифа. Училась в Вагановском, пока не поперли. Выскочила за итальянца. Говорит, маленький, похож на мафиози. Счастлива!» —
Яна заводит глаза мечтательно. «Постникова?! Так она
же страшная!» — «Не Постникова, ее сестра. Говорит:
счастье, что поперли. Стояла бы двадцать пятым лебедем. А теперь — пару раз наденет и шлет. Че-мо-да-нами», — она чеканит по слогам. «А Вострикова при чем?
На нее ж не налезет». — «Так она и не носит. Навесит
ярлыки и толкает как новое. Говорит: достало мотаться
челноком. Одному дай, другому отстегни — и проводники, и таможня. Постниковой тоже выгодно. В общем,
молодцы девки! Поднялись».
Вострикову я помню смутно — так, серая мышка. Теперь еще толстая. Толстая серая мышь.
«Ты что! Такая прикинутая! Спрашивала, как ты.
Хорошо, говорю. В мебельном бизнесе. Оказывает-
ся, теперь покупают». — «Бизнес?» Мне не успеть за
ее поворотами. «Да при чем здесь!.. Бывшие коммуналки». — «В бывших коммуналках воняет, — я говорю. — Гнилыми трубами». — «Подумаешь! — Яну не
собьешь с толку. — Трубы так трубы: недолго и поменять. Подкопим, сделаем евроремонт. Как в Европе.
Въезжают, потрошат до перекрытий. А потом все по-новому: и пол, и перегородки… Ты только представь:
коридор! Потолки… Три с половиной как минимум.
А окна…»
У меня слипаются глаза. Подкопим, сделаем евроремонт… И все будет хорошо…
«Ладно, — она жалеет меня, — спи… Пойду посижу
на кухне. Покурю…»
Коридор, оклеенный желтоватыми обоями… Рано
или поздно мы обязательно съедемся: сменяем две
двухкомнатные на одну коммуналку. Огромную, с потолками и окнами… Во сне я знаю: это не квартира.
А мое выпускное сочинение. «Символика желтого цвета в романах Ф.М.Достоевского». Повезло, отличная
тема. В моей памяти множество цитат: желтая каморка
Раскольникова, лицо Мармеладова, Сонин желтый
билет, мебель в кабинете Порфирия Петровича, перстень с желтым камнем…
Сейчас я возьму ручку и начну с самого начала…
«Господи!» — обмираю от ужаса: цитаты, которые я учила, никак не подходят. Здесь живут другие персонажи.
Те давным-давно умерли. Остались их внуки или правнуки. Теперь они тоже — старики…
Старуха — на ногах стоптанные бурки — крадется
в кухню. Оглядывается, льет из горшка. Желтая струйка утекает в раковину. Уборная далеко, через три двери. Каждый раз не находишься… Сует под фартук. Крадучись, идет к себе…
Голая кухонная лампочка, желтый цвет вполнакала.
В дверях — размытый силуэт. Женщина в синем фланелевом халате входит, направляется к раковине. Пускает горячую струю. В нос шибает старушечьей мочой.
«Сука! Опять за свое…» Шагает, напирая на пятки, колотит в филенчатую дверь: «Сволочь! Башку пробью!»
В дверную щель лезет запах хлорки. Старуха принюхивается. Ей очень страшно. Та — молодая. Возьмет
и изведет. Только и ждут ее смерти — зарятся на комнату. Старуха всхлипывает: «Отравители». Грозит желтушным кулачком…
Женщина в халате и рваных тапках выходит из своей
комнаты. Дергает запертую дверь: «Оглох? Засел, алкаш поганый!»
Старик в застиранной майке шарит за унитазом: там
припрятан мерзавчик. Выпивает единым духом. Желтый кадык работает как помпа. Оглядывается, сует за
горшок. Стерва! Найдет, устроит выволочку… Моет,
моет! Провоняла своими мылами… Плюет в пол.
Женщина уходит к себе. Садится в продавленное
кресло. На днях явилась агентша. Каждому по отдельной плюс доплата. Старуха, гадина, уперлась: тут родилась — тут и помру…
Она думает: никогда не кончится. А эти? Богатые
сволочи! Есть же деньги… Вот и кокнули бы старую суку. Теперь это просто: придушить — и всем хорошо.