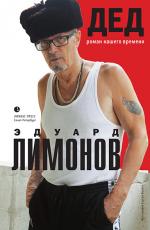- Галина Гампер. История заблудших. Биографии Перси Биши и Мери Шелли. — СПб.: Геликон Плюс, 2016. — 512 с.
Книга включает два романа: жизнеописание великого английского поэта Перси Биши Шелли («Дух сам себе отчизна») и романтизированная биография его жены, создательницы легендарного Франкенштейна, беллетристки Мери Шелли («История заблудших»).
Биографии похожи на авантюрный роман. Тут и тайное венчание, не оцененная при жизни гениальность, бесконечная угроза долговой тюрьмы, постоянные скитания, вечное бегство, трагическая гибель великого поэта, нелегкая судьба Мери после смерти мужа: бедность, предательство близких, долгожданный, но очень краткий период покоя.
ВСТУПЛЕНИЕ
I
По строгим правилам итальянского карантина труп утонувшего должен быть сожжен на месте, где его нашли.
Все заботы по устройству кремации взял на себя преданный друг Шелли Эдвард Джон Трелони; он много часов провел возле тела поэта, выброшенного волнами на берег только спустя месяц после того, как «Дон Жуан», маленькая прогулочная яхта, потерпел крушение в Неаполитанском заливе. Он нанял людей, сложивших погребальный костер, нет, два костра — 15 августа кремировали Эдварда Эллеркера Уильямса, старого приятеля Трелони, капитана яхты. Это он, Трелони, свел Шелли с Уильямсом полтора года назад, или — судьба? И вот теперь он ставил точку во фразе, начатой им — или не им? — тогда.
На яхте был юнга, Чарльз Вивиани. Стать бы ему отважным английским моряком, современником великой эпохи в истории флота — перехода от паруса к машине, но неумолимая судьба великого поэта подмяла под себя и эту едва начавшуюся жизнь.
Шелли сожгли на следующий день, шестнадцатого.
Вероятно, костер для того, чтобы сжечь человека, нужен огромный. Вероятно, полуголые итальянцы, приморский сброд (кстати, сколько их было — двое, трое?), складывая костер, не особенно скрывали свою радость по поводу хорошего заработка — богатые англичане платили щедро. Жизнерадостные шекспировские могильщики.
Трудно оторваться от этой картины — вот они тащат тело. В рукавицах? Или голыми руками? А потом бегут к морю мыться? Используют приспособления, вроде крючьев или носилок?
И серных спичек, напоминаю, тогда не было. Зажечь костер на берегу моря, где ветрено, надо было уметь. Вряд ли он занялся сразу, и веселые итальянцы, наверно, ругались, досадуя на ветер и собственную неловкость.
Как хорошо изучена эта эпоха — едва ли не каждый образованный человек вел дневник, и сопоставляя их с письмами и другими документами, жизнь не то что Шелли, а и того же Уильямса в последний его год можно расписать по дням, а порой и по часам.
И как плохо мы представляем себе ее живые подробности — люди эпохи Романтизма редко удостаивали их вниманием.
Еще, вероятно, при кремации присутствовал представитель церковных или светских властей и, надо думать, был составлен и подписан соответствующий протокол. Возможно, впрочем, это сделали позже — благодаря или взятке, или тому, что в те наивные времена государство еще сохраняло человеческое отношение к мертвым.
Но что мы знаем точно — Джордж Гордон Ноэль Байрон в сопровождении Ли Хента, лондонского журналиста, критика и поэта, единственного тогда профессионального литератора, по достоинству ценившего гений Шелли, приехал в экипаже и присутствовал при кремации.
Байрон умел вести себя так — благо и внешность, и слава, и внутренняя трагическая сила содействовали, — что любой его спутник казался сопровождающим. Это вошло в привычку и получалось само собой.
Вероятно, и Шелли выглядел рядом с Байроном (лордом Байроном, бароном Байроном) примерно так же — барон умел себя поставить, да к тому же невысоко ценил Шелли-поэта. Но смерть меняет многое. В тот день Байрон написал своему другу, поэту Томасу Муру: «Вот ушел еще один человек, относительно которого общество в своей злобе и невежестве грубо заблуждалось. Теперь, когда уже ничего не поделаешь, оно, быть может, воздаст ему должное».
И там же, несколько выше: «Вы не можете себе представить необычайное впечатление, производимое погребальным костром на пустынном берегу, на фоне гор и моря, и странный вид, который приобрело пламя костра от соли и ладана; сердце Шелли каким-то чудом уцелело, и Трелони, обжигая руки, выхватил его из горсти еще горячего пепла».
Как все-таки разведены мы не только во времени, но и в пространстве! Видимо, для Байрона нет ничего удивительного в поступке Трелони, раз уж сердце «каким-то чудом уцелело». Представьте себе, что группа русских в Италии хоронит соотечественника, подчиняясь тому же карантинному закону, — мыслимо ли предположить, что кто-то из них вынет сердце покойного из горсти праха? Что-то языческое, из английских сказок о людоедах видится в этом.
Но и родственные нам поляки сходно поступили с сердцем Шопена. Как нам понять друг друга?
Ли Хент попросил у Трелони сердце друга и передал его вдове поэта Мери Шелли. После ее смерти в 1851 году сын, сэр Перси Флоренс Шелли, нашел сердце отца — высохшее, готовое рассыпаться и стать щепоткой пыли. Оно хранилось в письменном столе Мери, завернутое в собственноручно переписанный ею экземпляр «Адонаиса» — поэмы Шелли, написанной на смерть другого великого романтика, Джона Китса. Томик его стихов был найден в кармане мертвого Шелли.
И символика действий Мери понятна. Однако странен и страшноват сам предмет, легший в основу символа.
Но отметим в этом символе еще одну грань: судьба поэта не кончается с его жизнью. Смерть — переломная точка судьбы, она огромна, но не больше самой себя. Или, как писал сам Шелли, «только суеверие считает поэзию атрибутом пророчества, вместо того чтобы считать пророчество атрибутом поэзии. Поэт причастен к вечному, бесконечному и единому; для его замыслов не существует времени, места или множественности».
II
«Бедой нашего времени является пренебрежение писателей к бессмертию», — писал Шелли. Именно свою включенность в поток поэзии, видимо, понимал он как судьбу. Человек своего времени, наследник эпохи Просвещения, он не мог принять Рок в его античном понимании, а если и мог, то не признавался себе в этом. Ренессанс с его представлением о самобытности и самоценности человеческой жизни давно оттеснил античное (да и средневековое) понимание Рока, или предопределенности, в область бытовых суеверий, на периферию сознания, в словесные клише типа «ему выпал жребий», «не судьба» и т. п. И в этом отношении дистанция между нами и романтиками невелика, тут мы — люди одной эпохи.
С другой стороны, все мы наследники христианского представления о смысле истории, когда человек зависим от этого смысла (этот акцент характерен для Средневековья) или от самой истории, что характерно для Нового и Новейшего времени.
Но, повторю, нас разделяет не только время, но и историческое пространство. В биографиях, написанных на Западе, герой преобразует мир, в котором живет, мир словно представляет собой декорацию, на фоне которой действует гений. Биографические телесериалы, набитые кочующими штампами типа «гений — толпа» — крайнее выражение этой тенденции, когда воля гения подчиняет себе мир, вообще говоря, равный толпе, которой гений и приносит себя в жертву.
У нас же герой — фигура скорее страдательная, не столько жертвующая, сколько жертвенная. Он настолько исторически и социально обусловлен, что напоминает число, подставленное в формулу. Таков толстовский Наполеон, но ведь Кутузов таков же. Разница — в осознании ими собственной роли.
Возьмем классика нашей биографической прозы Юрия Тынянова: ведь «Подпоручик Киже» — вещь не случайная, это, при всей тонкости, насмешка не только над бюрократией — тогда бы грош цена всей повести, — но и над идеалом русской биографической книги и одновременно — сам этот идеал. Идеал, добавляю, трагический.
Как и всякий человек, гений живет в истории, и она жива в нем. Он наделен волей и может бежать от судьбы или шагнуть ей навстречу, но он чувствует, вплоть до того что это чувство — или предчувствие — отливается в знание, что она ждет его.
Так, накануне гибели, уходя от жены своего друга и издателя Ли Хента Марианны, Шелли, как мы сказали бы теперь, «на ровном месте», не переставая улыбаться, произнес: «Если завтра я умру, знайте, что я прожил больше, чем мой отец, — мне 90 лет».
Это больше, чем включенность в поэзию, это ощущение судьбы, включенной в то, во что включена и сама поэзия — в мироустройство.
Судьба, воля, история, быт, переплетаясь, образовали жизнь поэта. Его посмертная судьба, свободная от воли, быта и самой жизни, становится частью истории.
Все это будет объектом нашего внимания.