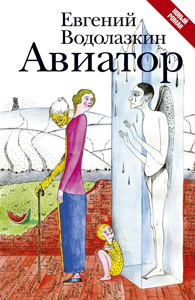Герой романа «Авиатор» – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни своего имени, ни кто он такой, ни где находится. В надежде восстановить историю своей жизни, он начинает записывать посетившие его воспоминания.
После оглушительного успеха «Лавра» судьба новой книги Евгения Водолазкина могла сложиться не так радужно: завышенные ожидания чаще всего не оправдываются. Тем не менее, книга с восторгом была принята читателями, о чем можно судить по рейтингам продаж и многочисленным отзывам. Она уже принесла автору II место премии «Большая книга» и вошла в короткий список премии «НОС». Критики тоже не остались равнодушными, и хотя их реакция не была однозначной, каждый из них, по-своему, пытался разгадать главную особенность романа.
Алексей Колобродов / Rara Avis
«Авиатор», в основных позициях и картинах — ностальгически-комариная дачная идиллия, брат-чекист, «Преступление и наказание», в смысле, что второго без первого не бывает (идея о возмездии, верная и незатейливая) — очень похож на «Утомленных солнцем» Никиты Михалкова. Я не про сиквелы — сумасшедшее «Предстояние» и диковатую «Цитадель», а про первых «Утомленных солнцем» — мастеровитых, скучноватых, чуть пародийных, оскароносных.
Галина Юзефович / Meduza
Помимо вопросов «преступления и наказания» (Достоевский — конечно, один из важнейших смысловых субстратов «Авиатора») Водолазкина волнует тема консервации, сохранения мира в слове — неслучайно его Платонов пытается фиксировать свою жизнь максимально подробно, во всех мельчайших частностях, чтобы еще раз продлить свое существование и на сей раз оставить вербальную «копию» себя своей еще не родившейся дочери. А уже в этот сюжет вкладывается тема искусства как такового — запечатлевает ли оно действительность или создает новую, и насколько в этой связи важно, кто именно пишет, например, о грозе или комарах — будут ли у разных людей грозы и комары различными или объединятся в некую единую, непротиворечивую общность?..
Майя Кучерская / Ведомости
И все же даже ярко и разноцветно прописанное утверждение бесценности милых бытовых мелочей, необходимости воплотить их в слове и так сохранить для потомков – после открытий школы «Анналов», после почти полувекового изучения «истории повседневности», после прозы Михаила Шишкина, наконец (который о воскрешении плоти словом пишет постоянно), – прозвучит ново лишь для самых неискушенных читателей «Авиатора». Однако Евгений Водолазкин дарит своему герою еще одну, по-настоящему неожиданную мысль: Иннокентий ощущает себя в ответе даже за те годы, что пролежал без сознания.
Григорий Аросев / Новый мир
В мире Иннокентия Платонова, человека, сохранившего человеческое достоинство, этой теме (теме смерти – прим. «Прочтения») места не находится. Она — вне его внимания. Вне его памяти. Память человека нацелена на жизнь, а не на смерть. Возможно, подобное презрение и есть главная, хотя и слегка замаскированная мысль автора в «Авиаторе», и вслед за булгаковским Понтием Пилатом, читающим некий пергамент, нам следует повторить: «Смерти нет».
Андрей Рудалев / Свободная пресса
Евгений Водолазкин в отличие от врача Гейгера не просто наблюдает за героем, привязывается к нему, а ставит над ним опыты. В этом смысле он даже ближе к академику Муровцеву, который в романе на соловецком острове Анзер проводил над людьми эксперименты и замораживал их.
Сами по себе персонажи Водолазкина односложны. Им не свойственна категория характера, да и тайну они из себя не представляют. По поводу характера, конечно же, можно сказать, что это следствие занятий медиевистикой, где такого понятия попросту не существовало. Но основная причина кроется в том, что сами герои книги не важны, они вторичны.
Анна Наринская / Коммерсант
Сглаженность, слаженность и, соответственно, несмелость делают «Авиатора» произведением клаустрофобическим, безветренным. Это даже удивительно — в произведении про шум времени (то есть даже буквально про него — «цоканье копыт ушло из жизни, а если взять моторы, то и они по-другому звучали») этого шума вообще нет. Герой «проспал» 70 лет с конца 20-х по конец 90-х, а мог бы проспать любые другие 70 лет. Это ничего б не изменило — ну кроме разве нескольких речевых оборотов.
Кирилл Филатов / Звезда
Быт девяностых годов, их атмосферу так точно и остроумно не передавала даже литература, непосредственно в девяностые писавшаяся. И одновременно с этим читателю предлагается увидеть Петербург начала века, воссозданный в дневниковых записях Платонова (весь роман построен как дневник) с мастерством подлинного художника. Здесь же проявляется стилистическая виртуозность автора, тончайше передающего интонационные особенности языка двух разных времен (пусть и не так сильно разнесенных, как в «Лавре»).
Дмитрий Бавильский / Новая газета
Хотя «лики прошлого» нужны ему не сами по себе, но как возможность говорить о текущем моменте. С помощью замысловатой композиционной рамы, рифмующей разные времена в неделимый поток. Эта, иногда почти картонная условность, необходимая для того, чтобы свести сюжетные концы, и слегка комкающая финал, отлично работает в первой части: картины предреволюционного и нынешнего Петербурга, поставленные встык, бьют по восприятию мощнее любых мемуаров.
Надежда Сергеева / Прочтение
О вопросах, которые поднимаются в романе, можно рассуждать долго — природа власти, ужасы лагеря, раскаяние человека в своих грехах. Здесь Водолазкин предстает верным последователем русских классиков — от Достоевского до Шаламова. Его текст многослоен: на поверхности — история, за ней — множественность смыслов, отсылки к библейским и художественным текстам, десятки поводов задуматься о серьезном.