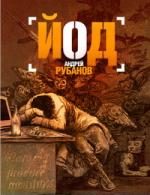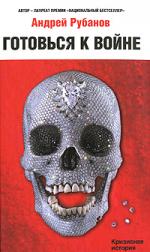Отрывок из нового романа
Мультимиллионеру Петру Глыбову, известному под прозвищем Продавец солнца, было тридцать девять лет. Журналисту Савелию Герцу — пятьдесят два. Взрослый мужчина шел брать интервью у сопляка-выскочки. Поднимаясь на девяносто первый этаж в шикарном, отделанном в стиле «псевдо-нео-хай-тек» лифте, журналист воображал себе снисходительные ухмылки, пренебрежительные взгляды и прочие нуворишеские фокусы. «Впрочем, — размышлял Савелий, — это можно как-то повернуть, построить материал на ноте тонкого презрения, подпустить интеллигентной издевки».
Все кнопки огромного вип-лифта, начиная с девяносто девятой, вместо привычных цифр снабжены были иероглифами и надписями на кириллице: «Только для китайцев». Висящая рядом дацзыбао лаконично напоминала про уголовную ответственность за незаконное вторжение на частную территорию.
Бесшумно ступающий, как бы бесплотный камердинер — босой, однако в полотняной пиджачной паре, — проводил Савелия в обширный гулкий зал. Миллионер Глыбов, совершенно голый, занимался спортом: прыгал на батуте. За стеклянными стенами переливалась в знойном мареве умопомрачительная панорама: белые и серые здания, пирамиды, конусы и параллелепипеды, меж ними, густо, зеленые острия стеблей. Супергород, техногенное чудо. Уникальное свидетельство могущества человеческого гения, однажды за пятьдесят часов побежденное примитивными растениями.
Еще выше — голубое небо, застегнутое на желтую пуговицу.
Савелий вздохнул.
У дальней стены миллионеровой резиденции, возле полыхающего камина, в шезлонгах возлежали, лениво кидаясь друг в друга конфетными обертками, голографические модели Бриджит Бардо и Эмми Уайнхаус, — обе полуголые.
— Здорово, журналист! — взмывая к потолку, зычно провозгласил Глыбов. — Присоединяйся!
— Спасибо, — вежливо отозвался Савелий. — Боюсь, шею сломаю.
— А ты не бойся. — Миллионер сделал сальто. — Сломаешь — куплю тебе другую!
— Вы очень любезны.
— Давай свои вопросы, — велел Продавец солнца. — Только быстро. И сделай два шага в сторону. Ты загораживаешь мне солнце.
Савелий торопливо повиновался и щелчком пальцев включил имплантированный в ладонь диктофон.
— Господин Глыбов, — с нажимом произнес он, — я представляю серьезный аналитический журнал. Нас читают влиятельные люди. Я собираюсь поднять в разговоре важные темы, и мне бы хотелось…
— Я понял, — небрежно ответил миллионер и соскочил на пол. Приблизился, протянул мускулистую руку: крупный, разящий потом самец, излучающий неприятное, избыточное здоровье. — Я понял, — повторил он. — Извини. Я забыл, что в наше время существуют серьезные журналы. Вчера ко мне приходил один дурак, тоже из какого-то журнала. Спрашивал, сколько оргазмов я имею в неделю и кто делает мне маникюр…
— Ваши оргазмы, — вежливо ответил Савелий, — наш журнал не интересуют.
— Ага, — кивнул миллионер. — А чьи оргазмы интересуют ваш журнал?
— Лично меня интересуют только мои собственные оргазмы.
Глыбов расхохотался, продемонстрировав великолепные зубы, покрытые ярко-красным лаком.
— Ладно. Выпить хочешь? Пожрать? Чаю, кофе, сигару, кальян? Будь как дома.
— Если можно, воды.
— Воды? — Миллионер жестом отпустил камердинера. — Много пьешь? Это правильно. Пойдем, я сам тебе налью.
Прошли в глубину зала, к огромным креслам, к стойке с напитками. Глыбов всмотрелся в лицо Савелия и вдруг спросил:
— Ты ходишь в мои солярии?
— Нет.
— Почему?
— В моем кругу, — сухо объяснил Савелий, — принято считать, что ваши солярии предназначены для бледных.
— А ты, значит, не бледный, — ухмыльнулся Глыбов.
— Бог миловал.
— Молодец. Присядь.
Журналист кивнул. Черт бы побрал этих нуворишей. Хоть бы халат накинул.
— Господин Глыбов, — начал он. — Мы пишем о людях, добившихся… э-э… успеха. Журнал называется «Самый-Самый». Понятно, что сегодня, в первые годы XXII века, когда средняя продолжительность жизни составляет девяносто семь лет, само понятие успеха выглядит анахронизмом. За семьдесят лет активной жизни каждый из нас имеет возможность успеть везде и всюду. Лично я, например, чемпион Москвы по трехмерному бильярду и кандидат философских наук. В обществе, где никто никому ничего не должен, успех гарантирован каждому…
— Понятно, — перебил миллионер и наконец завернулся в халат. — То есть я в мои сорок — зеленый пацан и при этом — хозяин большого дела. Такова тема интервью.
— Угадали.
— С чего начнем?
— С биографии.
Глыбов сел, мощными глотками осушил свой стакан и вздохнул.
— Биография моя скучная. Ничего особенного. Родился на окраине. Среди бледных. На девятом этаже. У нас в Балашихе трава растет густо. Сплошной полумрак. Я годами не видел солнца. Первый солярий — дешевую китайскую кабину — купил в восемнадцать. Сейчас у меня двадцать тысяч кабин. Любой, даже самый бледный человек может позагорать в моей кабине, потому что это дешево…
— Я знаю, — небрежно произнес Савелий. — Читал рекламные проспекты. А почему восемнадцатилетний Петр Глыбов решил посвятить жизнь именно соляриям?
Миллионер пожал плечами:
— Покойный отец часто рассказывал про старые времена. Когда каждый имел бесплатно столько солнечного света, сколько захочет. Я слушал его и думал: почему раньше было так, а сейчас иначе? В школе меня учили, что настоящее всегда лучше прошлого. Прошлое — это дикость, голод и беззаконие. Но я смотрел за окно и видел, что все не так. У моей страны солнечное прошлое и серое настоящее. Мне говорили, что прогресс — это хорошо. А я не понимал, что это за прогресс такой, если сегодня я вынужден платить за то, что вчера доставалось даром? Я догадался, что цивилизация устроена по простому принципу: никто никогда ничего не может получать бесплатно. В этой системе лучше быть тем, кому платят, чем тем, кто платит. Недостаток солнечного света приводит к дефициту в организме витамина А. Мне платят за этот витамин. Вот и все.
— Что же. — Савелий кивнул. — Коротко и ясно. А продавать свои услуги бледным гражданам — ваш принцип?
— Мой принцип — давать людям то, в чем они нуждаются.
Савелий вдруг понял, что сидящий перед ним молодой, атлетически сложенный, дочерна загорелый человек очень некрасив. А был, вероятно, даже уродлив — до тех пор, пока пластический хирург не переделал ему нос и губы.
«Ага, — подумал опытный журналист Герц, — тут мы имеем скрытый комплекс. Перед нами сублимант. Отсюда страсть к богатству, мускулы и прочее. Бесплатно, видать, ему девчонки не давали. А умные фразы насчет прогресса подобраны и выучены задним числом».
— Вы, — продолжил разговор Савелий, — очень популярны среди бледных слоев населения.
Миллионер отмахнулся:
— Мне наплевать. Я не искал популярности. Все, чего я хотел, — это переехать с двенадцатого этажа на девяностый. Чтоб наслаждаться солнцем.
Журналист помедлил. Дальше предполагался блок основных вопросов. За некоторые из них можно и в морду получить. Вон какие у этого малого кулачищи…
— Ходят слухи, — начал он, — что ваша империя — гигантская финансовая пирамида. Что вы вынуждены непрерывно расширяться, ставить новые и новые кабины. Говорят, что вы в долгах и ваши прибыли не покрывают издержек…
— Я никому ничего не должен, — спокойно ответил Глыбов.
Савелий проделал амортизирующий жест.
— Разумеется. Никто никому ничего не должен. Но я слышал, что вам помогают, как говорится, по дружбе…
— Эти слухи распускают завистники, — небрежно отмахнулся Продавец солнца. — Вообще-то, любезный, мне полагается оскорбиться. Если вы опубликуете предыдущую реплику, я немедленно подам на ваш журнал в суд. Что значит «по дружбе»? Дружба — удел гангстеров и бледных.
«Можно дать как заголовок», — тут же прикинул Савелий.
— Даже дети знают, — продолжал Глыбов, — что кредиты запрещены — таков залог устойчивости национальной экономики. Официально заявляю: вся моя финансовая отчетность прозрачна и опубликована. Иначе, кстати, я бы не стал генеральным спонсором проекта «Соседи».
— А правда, что все спонсоры проекта «Соседи» сами обязаны войти в проект?
— Правда.
— То есть вы, Петр Глыбов, — участник проекта?
— Угадали.
— И здесь, — Савелий осмотрелся, — везде объективы? За нашей беседой наблюдают?
Миллионер кивнул и хмыкнул:
— У меня тут сто пятьдесят камер. Но вы не волнуйтесь. Обычные разговоры не интересуют «Соседей». Подумаешь, журналист пришел поговорить с бизнесменом. Вот если бы мы с вами поговорили, потом напились, потом подрались, а потом помирились, а в знак примирения вызвали баб, напились с бабами и повторно подрались, уже из-за баб, — тогда могли бы попасть в топ-сто. А если бы, допустим, бабы тоже подрались, из-за нас, и стали душить друг дружку колготками — тогда нам обеспечено местечко в топ-пятьдесят…
— Забавно, — задумчиво произнес Савелий. — Обычно люди с вашим уровнем жизни не любят «Соседей».
— Я тоже не люблю. Но чего не сделаешь в интересах дела! — Продавец солнца захохотал, осушил еще один стакан воды марки «дабл-премиум» и вдруг застеснялся. — Между прочим, — он понизил голос, — по условиям контракта я обязан не только участвовать в проекте, но и рекламировать его.
— Исключено, — быстро ответил Савелий. — Повторяю, у нас серьезный журнал. Я не могу допустить, чтобы текст содержал элементы рекламы.
— Тогда, — весело произнес миллионер, — мы закончим интервью прямо сейчас.
Савелий вздохнул:
— Черт с вами. Рекламируйте.
— Это быстро, — великодушно сообщил Глыбов. — В проекте «Соседи» новая акция. Только в этом месяце. Любого желающего могут подключить в одностороннем режиме. В вашем доме не поставят камер, но вы сможете наблюдать за теми, у кого они есть. Вас не видят — зато вы видите всех… Плюс архив: топ-тысяча за прошлый год. Вы смотрите самое интересное. Чужие спальни. Женские раздевалки. Тюрьмы…
— Тюрьмы тоже подключены?
— У тюрем огромные рейтинги. В прошлом году арестанты центральной тюрьмы опустили известного убийцу и насильника Дронова. Трансляция вошла в топ-десять. Кстати, злодея поймали исключительно благодаря «Соседям». И еще одно: моя компания бесплатно установила в центральной тюрьме двадцать пять соляриев.
— Замечательно, — отреагировал Савелий. — Но хватит о «Соседях». Вернемся к вашей персоне. Правда ли, что вы ненавидите травоедов?
— Правда, — твердо ответил Глыбов. — Поедать траву — удел животных.
«Это тоже вариант заголовка», — решил журналист.
— Вы согласны с тем, что власти не способны бороться с травоедением?
Миллионер отмахнулся:
— Я не намерен критиковать власти. Я лояльный гражданин. Власти ничего никому не должны. Критика властей неизбежно ведет к разрушению персонального психологического комфорта…
Савелий вспомнил, что хотел подпустить в интервью тонкую издевку, и перебил:
— Простите, но это банально. Звучит как цитата из школьного учебника. Вы не любите травоядных, но каждый день видите, как мякоть стебля продается на каждом углу. Как вы с этим миритесь?
Глыбов посерьезнел. Его простое лицо не имело возраста, это мешало Герцу адекватно воспринимать собеседника. Издержки омолаживающих технологий, ничего не поделаешь.
— А кто вам сказал, — произнес миллионер, — что я с этим мирюсь? Я финансирую работы по изучению феномена стеблероста. У меня своя лаборатория.
— И есть успехи?
— Есть.
— Расскажите.
— Не имею права. Результаты засекречены в соответствии с законом. Могу сказать только то, что знают все. Трава выросла в течение двух суток. Логично допустить, что она засохнет так же быстро, — это первое. Второе: надо найти центр грибницы. Выяснить, что представлял из себя зародыш. Семя. Зерно. Сейчас мы расшифровываем геном травы, потом попытаемся клонировать зародыш — в нем разгадка. Понимаете?
Савелий кивнул, наблюдая, как лицо его собеседника меняется. Напряжение в уголках губ слабеет, глаза загораются интересом.
— Однажды, — тоном ниже продолжил миллионер, — мы убьем ее. Люди проснутся и увидят, что ее больше нет.
— Но тогда ваши солярии никому не понадобятся.
— Да, — почти нежно выговорил Глыбов. — И я закрою свой бизнес.
— Но чем вы тогда займетесь?
— Черт его знает. Какая разница?
— Вы потратили на свой бизнес двадцать лет, а сейчас…
— Слушай, друг, — грубо перебил Глыбов. — Ты говоришь, что я самый-самый. Весь из себя успешный и все такое. Я купил свою первую кабину в восемнадцать лет. В двадцать у меня было пять кабин. В тридцать — полторы тысячи кабин. Ты сказал, что ты чемпион и кандидат наук — а я не видел в своей жизни ничего, кроме кабин. Утром просыпался и думал: вот, у меня сто сорок две кабины и мне нужна сто сорок третья. Двадцать лет мне снятся только кабины. Стандартные кабины. Кабины для инвалидов. Детские кабины. Модель «Солнышко»… Если завтра мои кабины перестанут приносить прибыль, — первое, что я сделаю, это лягу спать и просплю месяц. И только потом, когда высплюсь, подумаю, чем заняться.
— И все-таки — чем же?
Миллионер закинул руки за голову.
— Наверное, уеду. На периферию.
— Ого, — с уважением пробормотал Савелий. — Вы бывали на периферии?
— Я везде бывал. Даже на Луне. А на периферии — тем более. Арендуешь три-четыре танка, берешь охрану — и поехал. А лучше — на вертолете…
— И как впечатления?
Продавец солнца встал, сунул руки в карманы халата и посмотрел на Савелия как на старого врага. Теперь он не выглядел самодовольным толстосумом, но и мечтательность исчезла. Савелий почувствовал угрозу личному психологическому комфорту.
— Если ты, — Глыбов ткнул в журналиста пальцем, — хороший журналист — а судя по вопросам, так оно и есть, — то прекрасно знаешь, что такое периферия. Ты спрашиваешь меня, Петра Глыбова, каковы мои впечатления от периферии? Ты бы еще спросил, каковы мои впечатления от могилы моего папы. Какие, черт возьми, могут быть впечатления?! Я видел огромные пустые пространства. Заброшенные города. Бескрайние поля, заросшие бурьяном. Там есть все. Банды дикарей. Медведи-людоеды. Язычники, которые молятся автоматному патрону, козьему вымени или, например, Великому Резиновому Противогазу…
Савелий вспомнил, что в лесах под Нижним Новгородом действительно есть община, где молятся Великому Резиновому Противогазу (костюмированное шоу для рисковых богатых туристов, прилетающих на собственных вертолетах), — и личный комфорт был восстановлен.
Тем временем Глыбов мрачно продолжал:
— Мой дед был военным человеком, полковником. Он часто говорил, что мы просрали свою страну. Теперь мне остается только повторить его слова. Он давно умер, мой дед. И это хорошо. Вовремя умер. Иначе он увидел бы, как китайцы в холодной Сибири выращивают хлеба в десять раз больше, чем выращивали русские в самые лучшие годы на самых лучших черноземах. Мы едим китайские яблоки и китайское мясо. Мы конченая нация. У нас был шанс, мы могли все исправить, даже после того, как полмира затопило. Даже после того, как впустили китайцев! Но трава нас доконала. Теперь людям совсем ничего не нужно. Они жрут мякоть стебля и смотрят «Соседей». Вы давно бывали на нижних этажах? Там, где вечная тень? Где выходят из квартир только для того, чтобы купить воды и позагорать в моих кабинах? Где женщины не рожают детей, потому что им лениво?
Савелий молчал.
— Вчера, — Глыбов медленно прохаживался перед сидящим журналистом, — мне звонили старые приятели. Мы вместе росли. Они рассказали, как возле дома, где я родился, бандиты повалили стебель. Толпа растащила триста тонн мякоти в полчаса. Арестовано пятьдесят человек. А еще у нас там теперь новая мода. Среди самой бледной молодежи. Криминальный альпинизм. Ночью забираются по стеблю на самый верх, чтобы отрубить верхушку — в ней самая сласть…
— Я слышал, — кивнул Савелий. — За последний месяц пятеро разбились насмерть. А вы, как я понял, не забываете товарищей своей бледной юности.
Глыбов кивнул и произнес, словно нехотя:
— Всех, кто захотел, я давно переселил на сороковые этажи.
— А были такие, кто не захотел?
— Да. Мать до сих пор не хочет. Говорит, ей и так хорошо.
— Понимаю.
— Ни хера ты не понимаешь, — буркнул миллионер. — Там, внизу, особенно по окраинам, своя жизнь. Все бледные, все веселые. Молодежь, особенно парни, сплошь «друзья». Народ постарше — «соседи». Мякоть жрут килограммами. Самый шик — сырая субстанция, без всякой возгонки. Накидают в тарелку — и ложками… Я у мамы бываю раз в неделю. Темнота, грязь, плесень, все спят по четырнадцать часов. Продуктовые лавки заколочены досками. Канализация не работает. Потому что не нужна. Никто ничего не ест. Даже чай не пьют. Только воду. Бесплатную, государственную. Из-под крана. Вот о чем ты напиши. А то, — Глыбов покривился, — «серьезный журнал, важные темы»…
— На этажах ниже двадцать пятого, — спокойно возразил Савелий, — ничего не происходит. Вы сами сказали — люди спят по четырнадцать часов. О чем тут писать? Один мой знакомый когда-то в молодости собирался роман сочинить. «Бледные люди». Переселился на седьмой этаж — и сел сочинять.
— Сочинил?
— Нет. Я пришел к нему в гости через полгода после его переезда. Главная его забота была — раз в день ложечку мякоти проглотить. Он был довольный, счастливый, глаза блестят… Лицо цвета сырого цемента. Сальные волосы. С тех пор я его не видел.
— Вот и разыщи, — посоветовал миллионер. — И напиши о нем.
— Сначала о вас, — возразил Савелий. — Прошу прощения, но ваши слова про конченую нацию и страну, которую просрали, не попадут в текст интервью. Это чересчур. По-моему, у нас не все так плохо. Да, мы мало работаем. Да, нас осталось сорок миллионов. Да, быт травоядных граждан отвратителен. Но зато мы счастливы. Россия очень богата. Да, мы потеряли Петербург, впустили чужой народ в Сибирь, но у нас колоссальные территории на Луне…
— Болван, — грустно вздохнул Глыбов. — В Сибири текут реки. Там растут кедры, белочки по веточкам прыгают. А на твоей Луне уже десять миллионов лет — один только прах ледяной. И больше ничего. Я летаю туда каждый год. Летаю на китайском челноке. И гуляю по Океану Бурь в китайском скафандре…
— Но что здесь плохого? Они производят, мы — пользуемся. Они нам должны, а мы никому ничего не должны.
Миллионер презрительно кивнул:
— Да. Конечно. Знаешь что? Тебе надо залезть на батут.
— Зачем? — удивился Савелий.
— Попрыгай, поймешь, — с ненавистью произнес Глыбов. — В верхней точке прыжка ты испытываешь невесомость. Зависаешь на миг и думаешь: вот оно, так называемое счастье. Ты ничего не весишь и никому ничего не должен. Ничего не должен, даже собственным весом не обременен — хорошо, правда?
— Я слышу в ваших словах иронию.
Глыбов выпрямился и вздохнул:
— Тебе показалось. Еще вопросы?
— Вопросов много, но…
— Да, — перебил миллионер. — На сегодня хватит. Оставайся на обед. Будут девки. Группа «Стоки Блю» в полном составе.
— Благодарю. — Савелий покачал головой. — Я не любитель.
— Я тоже. Но девки забавные. У всех троих синтетические связки и гортани. У одной под Марию Каллас, у другой под Любовь Орлову, у третьей под Кристину Агилеру. Хорошо поют. Но самое интересное начинается, когда они не поют. Две родились на шестом этаже, одна — на седьмом. Очень веселые. Дуры дурами. Мякоть жрут три раза в день. Десятую возгонку…
— Десятую?
— Ну, или одиннадцатую.
Савелий покачал головой:
— Простите, но для поднятия настроения мне не нужны девки с синтетическими гортанями.
— А мне нужны.
— Вы не производите впечатления счастливого человека.
— Угадал, — широко улыбнулся Глыбов. — Знаешь почему? Потому что я не счастливый человек. В отличие от тебя.
— Много забот?
— Много, — скучным голосом ответил миллионер. — У меня на фирме, представь себе, люди стали пропадать. Бесследно. За полгода — трое…
— Известный феномен, — кивнул Савелий. — Эскаписты. Наш журнал писал об этом. Обрывают социальные связи, бросают семьи, переселяются на нижние этажи, заводят гарем из бледных женщин и погружаются в беспредельное травоедство.
— Это не эскаписты, — отрезал Глыбов. — Тех легко вычислить по сигналам микрочипов. А мои исчезли, как не было. Их сигналы пропали.
— Так не бывает.
— Бывает. Если выбраться за пределы Москвы. На пери¬ферию.
Савелий улыбнулся и встал.
— Человек из Москвы, — сказал он, — не способен жить за пределами Москвы. Каждого из нас на периферии ждет только голодная смерть.
Ссылки