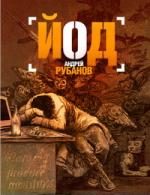Глава из книги Андрея Рубанова «Йод»
В столице России у меня появился шикарный кабинет. Московская приемная мэра Грозного обосновалась на двенадцатом этаже новейшего высотного билдинга рядом с Павелецким вокзалом. Привыкнув, я пригласил в гости Миронова, и Миронов, даром что бывалый человек, был впечатлен: войдя, он вытирал подошвы об коврик у входной двери до тех пор, пока я его не остановил.
С высоты пятидесяти метров, сквозь дымчатые панорамные стекла, дочиста отмываемые раз в неделю бригадой верхолазов, Москва выглядела неплохо — особенно если совсем недавно ты смотрел на этот жестокий, бестолковый и аморально богатый город через прутья тюремной решетки. Объект наблюдения выглядит очень разно, в зависимости от того, где пребывает наблюдатель.
— Отлично, — сказал Миронов, погружаясь в кожаное кресло и оглядываясь. — А курить можно?
— Нельзя, — ответил я. — Во всем здании не курят. Раз в полтора часа мы выходим всей бандой во двор и там курим.
— Все равно отлично.
Он посмотрел на книги, лежащие на моем столе: жизнеописание Йозефа Геббельса и уважаемый мною фундаментальный труд Густава Ле Бона «Психология толпы».
— Короче говоря, ты теперь чеченский Геббельс.
— Нет, — с сожалением ответил я. — Мне до него далеко. У Геббельса было целое министерство. Выделенный бюджет, сотрудники, полномочия. А у меня ничего нет. Мне даже денег тут не платят.
В восьмом часу вечера мы сидели одни. Секретарши, просители и приближенные к мэру люди, два часа назад заполнявшие офис пестрою толпой, давно исчезли. И я мог говорить про Геббельса — а также про то, что мне не платят — не опасаясь лишних ушей.
— Демократические системы, — сказал я, — традиционно пренебрегают пропагандой. В отличие от тоталитарных систем. Это очень плохо. Когда я впервые прилетел в Грозный, я был удивлен. Я думал, что город будет весь засыпан листовками. Но за три месяца я не видел ни одной пророссийской листовки. Нет газет, нет радио. Информационная война не ведется!
— А ты, значит, хочешь вести информационную войну, — сказал Миронов.
— Меня для этого позвали.
— Ты хорошо выглядишь. Загорел.
— В Чечне сейчас плюс тридцать.
— Ты молодец. Ты на своем месте.
Я с удовольствием кивнул. Мой шеф Бислан с ювелирной точностью поставил бывшего журналиста, финансиста и арестанта на тот участок фронта, где бывший журналист и арестант сразу принес пользу. Еще в июне бывший финансист, сидя на деревянном ящике во дворе мэрии Грозного, после второго стакана теплой водки требовал дать ему автомат и отправить в бой — теперь, спустя несколько недель, он догадался, что желающих бегать с автоматом по пыльным разбитым асфальтам чеченской столицы — хоть отбавляй, но среди них мало кто способен прилично связать на бумаге по-русски хотя бы несколько фраз.
— Скоро выборы, — сказал Миронов. — Бислан будет Президентом Республики. А ты взлетишь еще выше.
— Мне этого не надо, — ответил я. — Зачем взлетать? Я и так в полете. Как это ни смешно, я тут в натуре на своем месте. Мои амбиции мегаломаньяка полностью удовлетворены. Ходить с видом всезнайки, красиво пиздеть, быстро отвечать на любые вопросы. Постоянно мониторить прессу. Мне бы свое ведомство, двоих-троих толковых людей, мне бы бумагу и множительную технику — я бы поставил на уши половину Кавказа.
— Ты любишь это, — заметил Миронов, наблюдая за улыбающимся мною.
— Ставить что-то на уши? — я улыбнулся еще шире. — Да. Люблю. Не то что люблю — умею. Или мне кажется, что умею. Но когда я влияю на ситуацию — в Чечне, или в «Матросской тишине», или где-нибудь еще — мне тогда хорошо. Кроме того, я приношу пользу людям, а это важно.
— У тебя глаза блестят.
— Возможно, — я повертел в руках биографию Йозефа Геббельса. -Странно, да? Типичный русский Вася из деревни Узуново самореализовывается в Чечне. Ближе места не нашел…
Миронов сказал:
— Лермонтов тоже самореализовывался на Кавказе.
— Да. Кавказ нужен России, чтобы там умирали ее поэты.
— Слишком красиво сказано.
— Извини, — ответил я, переставая улыбаться. — Согласен. Я ж пресс-секретарь, я приучаю себя говорить афоризмами. На самом деле там страшно, Миронов. Хуево там. Я ожидал немного другого. Там сейчас сто тысяч человек мирного населения. Бабы плачут, в черное одетые. Грозный — город плакальщиц. А тут, за тыщу километров, черные вдовы никого не интересуют. Наоборот, публика злорадствует. Ага, непокорные вайнахи, хотели Ичкерию — так им и надо теперь!
Пахло дезодорантами, средствами для чистки ковров, новой дорогой мебелью. Охлажденным и очищенным воздухом. Немного пахло и сигаретами: приходившие на прием к мэру визитеры были люди суровые, много повидавшие и часто, наплевав на местные правила, курили за дверью пожарного выхода. И я ничего им не говорил: по кавказским понятиям младший не должен делать старшему замечаний.
Кстати, пришли и другие, несколько интеллигентных мужчин с учеными степенями, они присматривали за мной, чтобы я не облажался. Бислан не стал мне ничего объяснять, швырнул в гущу событий, как рыбак бросает сына с лодки в воду: плыви, как умеешь. Я пока плыл.
— Слушай, — сказал Миронов. — Пока не забыл: подари мне фотографию. На память. Какую-нибудь настоящую чеченскую фотографию. Чтоб ты стоял, как положено, с «Калашниковым», на фоне утеса и бурлящего горного ручья. В обнимку с товарищами по оружию, или как это у вас называется…
— Нет у меня такой фотографии, — ответил я. — Ни одной нет. Чужих снимков — сколько хочешь. Зачистки есть, мародеры есть, чеченский ОМОН есть, мэрия Грозного, городской рынок… Бислан есть… А самого себя нету. Как ты себе это представляешь? Чтобы я попросил какого-нибудь бойца сфотографировать меня «на память»? Он бы сразу понял, что я на их войне — турист. Приехал и скоро уеду.
— А ты уедешь?
— Нет. С какой стати? Какие фотографии, я не турист, я нанят работать чиновником. Представь себе, что Геббельс прилетает на Восточный фронт и просит ординарца сфотографировать его на фоне горящего Киева. На память.
— Да, — согласился Миронов. — Это глупо. Кто хочет заполучить весь мир, тому не надо фотографироваться на фоне отдельно взятого города. Ты прав. И ты молодец.
— Скажи это моей жене. Я уже месяц не приношу домой денег.
— Она поймет, — усмехнулся Миронов. — Она подобреет, как только ты станешь личным другом и секретарем президента республики. Лучше скажи: она не боится, что ты найдешь себе молодую красивую чеченку?
— Ты с ума сошел. Я за версту их обхожу. Молодых и красивых. Это Кавказ. Еще пристрелят, за невежливое слово. И потом, молодые чеченки все патриотки своего народа, они полны решимости рожать чеченских детей и восстанавливать численность населения Республики.
— Эй, — сказал Миронов. — Ты перепутал. Я не журналист из газеты «Известия». Мне не надо так красиво втирать про чеченский патриотизм. Я ведь тоже считаю, что они сами виноваты в своих бедах.
Мне захотелось положить ноги на стол, — будучи бизнесменом, я это любил. Но чиновники, наверное, ведут себя более прилично.
— Конечно, виноваты, — сказал я. — Целый народ стал заложником собственного имиджа. Половина цивилизованного мира считает чеченцев кровожадными дикарями. Никто не хочет с ними связываться. Никто не хочет с ними работать. В результате мэр столицы республики вынужден приглашать на должность пресс-секретаря — дилетанта. Студента-недоучку с уголовной судимостью.
Миронов опять с заметным удовольствием изучил вид из окна — закованную в гранит реку и Таганскую площадь, вращающуюся против часовой стрелки, как земной шар — и спросил:
— А там, в Чечне, знают, что ты судимый?
Я кивнул. Когда Бислана (и меня) судили, соратники и друзья мэра собирались возле здания суда злой плотной толпой и скандировали: «Свободу Гантамирову!» Однажды они, в сотню сильных рук, стали раскачивать автозэк, где сидели я и Бислан, и едва не перевернули тяжелый грузовик. Ближе к финалу процесса соратники стали великодушно требовать свободы не только Бислану, но и остальным подсудимым, в том числе и мне. Выпрыгивая из люка тюремной машины в объятия конвойных ментов, я слышал хриплый рев горцев: «Свободу Рубанову!» И вот, спустя год с небольшим, я проходил по коридорам мэрии, а незнакомые мне люди смеялись, поднимали в воздух кулаки и опять орали: «Свободу Рубанову!»
Конечно, кому было надо — все знали, кто я такой. А однажды один парень, примерно моих лет, приезжавший в Грозный помочь родственникам — в Москве он был влиятельный коммерсант, а на родине облачался в камуфляж и не расставался с автоматом — увидел меня и воскликнул:
— Ха! Рубанов! Что он тут делает?
Ему шепнули, что Рубанов теперь — пресс-секретарь.
— Какой он пресс-секретарь! — гневно сверкнув глазами, крикнул камуфлированный предприниматель и предпринял попытку взять меня на прицел. — Он же первейший аферист, банкир, отмыватель черного нала! Вы тут с ним поосторожнее, с этим пресс-секретарем! Он вам тут быстро офф-шорную зону устроит, фирм липовых наделает, штук сто! Вас, колхозников, вокруг пальца обведет! Через год все будете ему должны!
Далее все расхохотались, и я тоже. Ибо все это, разумеется, была чисто чеченская шутка.
Шутили много, грубо, шумно, юмор их был тяжеловесный, но искренний, и меня стали воспринимать всерьез только тогда, когда поняли, что московский гость умеет хохотать так же громко и беззаботно.
А что еще делать? Дома сожжены, работы нет, света и воды нет, ментовской зарплаты едва хватает на чай и муку — остается только хохотать.
Через несколько дней я неожиданно оказался в Махачкале. То есть, прилетел в Грозный, за новой порцией новостей, но на второй день люди из свиты Бисланасказали мне, что надо «съездить в одно интересное место», усадили в машину и куда-то повезли, в компании трех веселых автоматчиков; сидящий справа непрерывно ласкал средним пальцем скобу предохранителя, ноготь на пальце был черный, изуродованный, в точности как у Димочки Сидорова, тогда, в тюрьме; впрочем, сходство между Димочкой и смуглым вайнахом, обвешанным сизыми яйцами снарядов для подствольного гранатомета, на этом заканчивалось. Ехали примерно шесть часов, строго на восток; я не спрашивал, куда. Мне удавалось сохранять невозмутимость в самых щекотливых ситуациях — если куда-то едем, значит, так надо. Приезжая в Чечню, я никому не задавал вопросов. Никому, никогда не задал ни одного вопроса. Самый невинный вопрос изобличил бы во мне новичка, — а моя работа заключалась в том, чтобы иметь вид человека, абсолютно осведомленного во всем на свете.
К вечеру подъехали к многоэтажной гостинице в окружении чисто выметенных асфальтовых дорожек, кустов и деревьев, я вышел и уловил давно забытый запах; гостиница оказалась не гостиница, а пансионат, причем ведомственный, чуть ли не ФСБ, почему-то практически пустой.
В каждом номере был просторный балкон — а под балконом гудело и шуршало Каспийское море.
Мне принесли две бутылки местного дагестанского шампанского и рекомендовали отдыхать.
Я не хотел отдыхать; в Москве сидела грустная жена, в комнатах нашей квартиры не было штор, с потолков свисали голые лампочки, и раз в неделю сын протирал до дыр колени на новых джинсах — если бы шеф дал мне три дня отпуска, я бы потратил это время на хлопоты по хозяйству. Но шеф жил в немного другом мире; уговорив первую бутылку и вдоволь насмотревшись на пенные атаки длинных злых волн, я понял, что таким образом Бислан проявляет обо мне заботу. Показывает, что умеет жить. И предлагает мне учиться тому же.
Конечно, выходные на море были устроены не персонально для меня — ближе к ночи и сам шеф приехал, вместе с заместителем, и тут же пошел купаться, хотявода была холодна.
Я тоже прошелся по острым камням, но в воду не полез, хотя надо было все же рискнуть и искупаться. А лучше — раздобыть серф и попробовать прокатиться. Только где в городе Махачкале найти доску для серфинга?
Да и не умею я на серфе.
Последний раз я плавал в море, будучи подростком пятнадцати лет, в пионерском лагере близ Евпатории, а для меня, сугубо сухопутного человека, вдобавок бывшего пионера, поэта и романтика, море — практически священная субстанция. Дважды в своей жизни я остро и с наслаждением мечтал о море: когда сидел в офисе, фиолетово-желтый от переутомления, загребая деньги лопатой, и когда сидел в тюрьме, фиолетово-желтый от недостатка свежего воздуха, вылавливая вшей из нижнего белья. Если разобраться, Бислан сделал мне большой и важный подарок, и после того, как я вернулся, по темноте, на свой выложенный кафелем балкон и прикончил вторую бутылку жесткой, но вполне кондиционной шипучки, я уже был полон суровой благодарности к своему работодателю. Хотя чувство вины перед женой оставалось. Она тоже была бы рада морю, она его тоже заслужила, и это море нам с ней надо было увидеть вместе.
Судя по всему, в этом санатории Бислану нечего было мне сказать — разумеется, не все у него шло гладко, и его дорога к креслу президента республики не была прямой. И вообще, завидовать было нечему. Он сделал сумасшедшую политическую карьеру, но не мог помочь своему народу выбраться из руин, — это не под силу одному человеку, будь он хоть Де Голль, хоть Кемаль Ататюрк. Нужны исполнители, время, силы, деньги, наконец — у Бислана не было почти ничего. На следующий день после обеда я попросил шефа об аудиенции, и спустя полчаса, открыв дверь его номера, увидел мэра Грозного лежащим на диване — он вполглаза смотрел телевизор, какую-то ерунду, чуть ли не рекламу, вдобавок с выключенным звуком. Большой усталый человек в носках и пятнистых штанах. Увидев меня, сразу сел и мгновенным движением огромной ладони согнал с лица сонливость, подобрал повыше мышцы лба и щек, улыбнулся, нахмурился — пришел в рабочее состояние, но я сразу понял, что зря приперся; шеф, скорее всего, специально уехал — как из Москвы, где его осаждали сотни желающих «восстановить знакомство» и где ему приходилось два раза в неделю менять номер личного телефона, так и из Грозного, где исчезало без вести по пять человек в сутки, — уехал на два дня, по-русски говоря, оклематься, и я, конечно, был ему важен и нужен, но в тот день ему вообще никто не был нужен, и его обаяние, и размах плеч, и улыбка, и чрезвычайно звучный, едва не колоратурный баритон, и «Стечкин» за поясом широкого ремня — все было в первую очередь приемами игры, а уже во вторую очередь неотъемлемыми качествами его личности. Если ты обаятелен и силен от природы, но вынужден на протяжении полугода раскручивать обаяние и силу на полную мощность, однажды ты устаешь, и тебя тошнит от собственного обаяния.
Взъерошенный, загорелый, он выслушал деловитого, немногословного пресс-секретаря: тот отчитался о работе, сунул папку с вырезками из столичных газет, — Бислан открыл, стал смотреть, его глаза едва не слипались, и пресс-секретарь вежливо вынул папку из его пальцев, закрыл, положил на столик, сказал: «Потом прочитаешь, отдыхай» — не фамильярно, а на правах близкого товарища, соседа по централу «Матросская тишина».
Пресс-секретарь так и не отдохнул за те полтора дня, не смог расслабиться. Он выпивал, ел местную еду, часами просиживал на балконе, в пластиковом кресле, вытянув ноги и наблюдая жемчужные переливы меж собой и горизонтом, и хвалил свою предусмотрительность, заставившую прихватить из дома две пары чистых носков; в городе были перебои с водой, она не всегда текла из кранов, а если текла, то в любой момент могла перестать вытекать. Пресс-секретарь много и старательно дышал соленым воздухом, и если бы провел на берегу не сорок часов, а сто сорок, получил бы много пользы для здоровья и нервов, — но, повторим, почти ничего не получил. Он был сложно сделан, или думал, что сложно сделан, — так или иначе, ему всегда, с раннего пубертатного юношества, приходилось настраивать себя на отдых, мысленно вращать какие-то специальные внутренние рукоятки, позволяющие выйти из режима движения в режим покоя. Внезапный набег на каспийское побережье вышел слишком кратким, скомканным — пропитанный разнообразной тюремной дрянью организм пресс-секретаря ничего не понял.
В вестибюле пансионата стояла будка междугородного телефона, и он несколько раз звонил в Москву, говорил с женой.
За час перед отлетом у него разошелся шов на левом ботинке, и он сильно расстроился.
А Каспий был прекрасен, весел и бесшабашен и упруг, он ревел и хохотал, он очень обижался, ведь люди должны приезжать к нему не в камуфляже, с автоматами — а в белых штанах, на машинах с открытым верхом, чтоб сзади торчали в небо доски для серфинга.