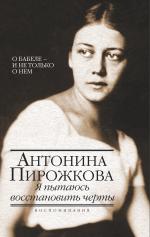Двадцать восьмого сентября Виктор отправился в Москву. Похолодало, до станции он шел мимо скорбных деревьев, изо всех сил дрожавших, пытаясь отряхнуть бледный пушок, — всё-таки север Подмосковья.
Днем поползли туннелем под Пушкинской площадью, лопнула трубища под книжным магазином — пришлось тащить на себе газовые баллоны и электросварочный аппарат; потом, не заходя в аварийку, сунулись по соседству в Козицкий переулок в подвал дома, где сочилась прогнившая узкая труба; Кувалда всадил щепу и готово. После пяти вечера появилось еще дело — течь в ЦТП на Каретном Ряду.
Только вечером, уже часов в восемь, Виктор, оставив спецовку в шкафу, на этот раз не отпрашиваясь, вышел на улицу и поспешил к метро. «Я быстро, — думал он, — быстро, быстро я… Никто не хватится, а хватятся — отработаю».
На выходе из «Краснопресненской» его оглушили крики и грохот и в оборот взяли два мента в фуражках: один вдарил в плечо, другой заскочил спереди, бешено крикнув: «П..дуй отсюда!» Рядом, пихая с боков, менты тащили куда-то во мрак старика со старухой. Справа шеренга в касках ритмично колотила дубинками по стальным щитам, слева кричали и свистели из толпы…
Он протиснулся между парнем в кожанке с красным пожарным багром и пожилым дядькой в широкополой фетровой шляпе, с черенком от лопаты и разбитым, в запекшейся крови носом. Люди на переднем крае держали кто что: палки и железяки, древки, обмотанные флагами. Дружный хор затягивал распевные кричалки.
— ОМОН, иди домой! — услышал Виктор и, охваченный тоской, выкинув кулак, вглядываясь в тучу, грохотавшую резиной о железо и наползавшую всё ближе, подхватил так громко, как мог:
— ОМОН! Иди домой!
Он отступил в ряды кричавших, потому что был вооружен только кулаками, но те, кто старался вырваться на передовую, локтями затолкали его совсем назад, туда, где возбужденно и зло жужжали голоса:
— Сволочи!
— Весь день били и гоняли!
— Бьют и бьют!
— У меня рука в синяках кровавых!
— Главное, целят в голову!
— Дубинка-то пружинит. Бьет два раза.
— Как два раза?
— Раз, и еще…
— Мужчине щитом лицо порезали…
— «Черемухой» травили…
— Ребят-комсомольцев в зоопарк загнали…
— Он не на ремонте?
— Там половина работает.
— Надо было клетку открыть и на этих скотов тигров выпустить!
— Или медведя белого!
— Во-во! Звери пьяных не любят, а от этих водкой воняет.
— Зверей на зверей!
— Водку «Кубань» жрут, им утром ящики завезли, товарищ видел.
— Ничего, Белый дом им покажет…
— Как медведь!
— Белый медведь!
— Белый дом в Америке, а у нас — Дом Советов.
— Надо же, депутатов за колючку… Она во всем мире запрещена. Алкснис сегодня объяснял: спираль Бруно называется. Наступишь на нее, закрутит всего, только автогеном вырезать.
— Свердловский ОМОН — главная скотина.
— Еще из Омска и из Нижнего…
— Полицаи! Лежачих бьют, зеленые гребут!
— Шесть долларов за час!
— Кому служат? Разве это власть? Жулики и воры!
— Проханов так и пишет: ВОР. Временный оккупационный режим.
— Все вклады украли! У меня на счету дача лежала…
— Изобилие… Гайдару бы мою пенсию, быстро похудеет.
— Порвать бы колючку ихнюю к херам…
— Какое? Близко не пускают.
— Хотят штурмовать.
— Пусть только сунутся. Их там угандошат.
— Сам бы стрелял!
Последние слова сказал Виктор — низким ненавидящим голосом.
Он ненавидел себя за страх, но еще больше тех, кто приблизился к толпе вплотную, грохоча дубинками.
ОМОН надвигался от метро, и люди ждали, а сбоку, возле сверкавшего пестрыми ромбиками клуба «Арлекино», в нервных бликах неона тянулось оцепление, за которым всё было заставлено грузовиками, пожарными и поливальными машинами и, очевидно, дальше змеилась опасная колючка.
— Фа-шис-ты! Фа-шис-ты! — неслось от метро.
Железный грохот пропал, мгновение — толпа испустила вздох и зашаталась.
Виктор увидел, как мелькают дубинки, которые бьют уже не по щитам. Щиты загремели снова, нестройно, под встречными ударами. Вразнобой зазвякали каски.
Понеслись рыки и стоны, занялся бабий протяжный визг, под этот визг ряды ломались, перемешивались, началась давка, все одновременно рванули в разные стороны, заклинивая друг друга.
— Нет! Нет! — длинно вопила женщина в мохнатом
сером платке.
— Русские, вперед! — надрывался кто-то.
Отряд в касках вошел в толпу, рассекая ее пополам,
расчищая себе дорогу быстрыми взмахами. Несколько молочных фотовспышек… «Неужели и меня сейчас будут бить?» — со сторонним любопытством подумал Виктор. Он сощурился, различая детали и оттенки: серебристые щиты с круглыми дырками наверху, защитные бушлаты, синие бронежилеты, болотного цвета каски…
Вдруг ему показалось, что уверенными рывками омоновцы движутся прямо на него… Происходившее становилось всё непонятнее, донесся сбивчивый страшноватый треск раций. Боковым зрением он заметил, как возле оцепления, под неоновым светом клуба собирается другой отряд, в белых шлемах, разноцветных и живых из-за радужного сверкания…
Плотность толпы неожиданно сменилась простором, и он обнаружил, что большинство, выкрикивая лозунги, уже отступали по тротуару, некоторые, и он тоже, замешкались, не зная, что делать, кто-то рубился по-прежнему возле метро, сжавшись в кучку, из которой омоновцы выдергивали людей и волокли, осыпая ударами.
Виктор потерялся…
Он хотел ускользнуть, но вместо этого поднажал вперед и оказался перед запыхавшимся омоновцем — круглое усатое лицо багровело из тьмы. Усач крепко толкнулся щитом в грудь, и тут же плечо Виктора ошпарил пружинистый удар. И даже двойной удар, с подскоком.
Он еле удержался от крика (какая унизительная боль!) и метко, поверх щита, засадил кулаком в обвислые усы. Под костяшками, сдирая кожу (тоже больно, но славная боль), лязгнули зубы, этот лязг на мгновение отменил другие звуки. Виктор успел отдернуть руку, омоновец закрылся щитом и принялся вслепую махать дубинкой, но Виктор, увернувшись, гулко долбанул сапогом в его щит, как в ворота, и заорал:
— Покажи личико! Покажи! Ну, покажи, сука!
— Ох..ел? — из-за омоновца вынырнул следующий, молодой и рослый.
Он размашисто занес дубинку, чтобы хлестнуть без жалости, рассекая залысину, отнимая сознание, обрушивая большое тело на асфальт.
Но тотчас длиннющая доска упала рослому навстречу, и, заслоняясь от нее щитом, он забыл хлестнуть, а Виктор, глянув через плечо, увидел, что не один — за ним, почему-то все с досками, обломанными, остроконечными или длинными, толпились грозные люди. Он понял, что отступившие стягиваются обратно.
— Вся ладонь в занозах… Как вынимать? — услышал он чье-то ворчание.
— Бей! — закричал Виктор и ринулся вперед со сжатыми, налившимися свинцом кулаками.
Оба омоновца неуклюже бросились наутек и развернулись со злорадным гиком: за ними и с ними резво двигалось их родное полчище. Кучка у метро была разгромлена: ни крика, ни флага, сплошные зеленые каски, бесконечные каски… Омоновцы накатывали — в своих касках похожие на желудей. Сбоку, облитый разноцветной кровью «Арлекино», растянув шеренгу, чуть медленнее, тоже шел ОМОН, белые шлемы.
— Шесть долларов за час! — женский глубокий крик.
— Шесть долларов за час! — закричал Виктор, инстинктивно пятясь и думая, что диспозиция всё время меняется.
— Шесть долларов за час! Шесть долларов за час! — с напором заладило множество голосов.
Какие-то черные штуки полетели над головой, по-птичьи, наперегонки. Виктор, слыша, как звучно отзываются щиты впереди и сбоку, понял: это летят выломанные куски асфальта.
Внезапно в унисон одним паролем затрещали рации — омоновцы разом взмахнули дубинками и побежали.
— В клещи берут, — пропел кто-то панически.
Теперь омоновцы молотили и месили вокруг, свирепо, наотмашь, добавляя ботинками.
Люди сопротивлялись, но лишь раззадорили тех, кто был сильнее: в первую минуту раздавались звяк и скрежет противоборства, во вторую — попа´дали на асфальт доски, железки, флаги, а в третью — ОМОН всё прибывал и сдавливал — начали падать тела. Кто падал бесчувственно, кто с криком, кто молчком, закрывая голову, пока остальные, уцелевшие, неслись прочь.
Виктор, схлопотав по ребрам и уже ушибленному плечу, мчал Красной Пресней под большой топот — бежали впереди него и позади, с тротуара выплескиваясь на дорогу. Сейчас он хотел одного: спастись. За спиной остались стук и рев, старик, которого пинали, как мешок, и загнанный плач растрепанной женщины, потерявшей платок и тянувшей на себя запертую дверь клуба.
По переходу Виктор метнулся на другую сторону, к зоопарку, и вскоре был у метро «Баррикадная».
Его приманил черно-желто-белый высоко поднятый флаг и сборище, разраставшееся на глазах. Напротив туманной, смутно горевшей сталинской высотки, распахнув двери и сияя, застыл троллейбус.
— Братья! С нами Бог! — бушевал парень, кожанка с массивными металлическими заклепками. — Айда перевернем!
— Братцы! — кричала пронзительно, глядя на него с обожанием и словно бы ему лично, маленькая хрупкая девушка, тоже в косухе.
Парень подпрыгнул и, дернув канаты, сорвал рога с проводов.
— Навались! — К Виктору повернулся скуластый мужик с резкими ссадинами на лбу и алым флажком из советского детства, торчащим за ухом.
— Не роняйте его! — распоряжался немолодой мужчина с доблестной выправкой, в двубортном горчичном плаще. — Давайте машины останавливайте… Вы, вы и вы… — Он выбирал убежденным кивком, и ему подчинялись. — А вы толкайте…
Часть людей и знаменосец (бравый горбун с флагом на длинной удочке) высыпали на проезжую часть, размахивая руками, как будто ловят машины, и крича по складам:
— По-бе-да!
— Помоги! — Виктор увидел большеглазую женщину в сигнальном жилете лимонного цвета, по жилету было понятно, что это водитель троллейбуса. — Из кабины… меня… хулиганы… жизнь какая… куртка моя в парке… простужусь… Дорогой, помоги! — Дорогой, которого она зазывала двумя руками, был мент, невозмутимый и как бы довольный, молчаливо наблюдавший со стороны.
Облепив троллейбус сзади и по краям, где были открыты двери, люди покатили его, осторожно поворачивая, начиная перегораживать улицу.
— Э! Э! — ожил мент, нерешительно подаваясь вперед.
На него зашумели, точно заметили только сейчас. Он
сорвал с себя рацию и, что-то обиженно бормоча в нее, переваливаясь, заспешил прочь.
Виктор в два скачка достиг троллейбуса, потеснил пыхтящего деда в ватнике, приналег сзади. Наконец Баррикадная улица, мощенная булыжником, и хоть узкая, но с двусторонним движением, была перегорожена. Машины, бибикая, убирались задним ходом в сторону Садового или к зоопарку.
— По-бе-да! По-бе-да! — заладили голоса.
— Разве это победа? — вслух спросил Виктор.
— А если не веришь, ее и не будет, — обернув к нему скуластое лицо, смачно ответил мужик с флажком за ухом. — Мы ее зовем, чтоб она была! Победу выкликают! — Виктор подумал, что красно-коричневые ссадины на его лбу похожи на китайские иероглифы. Вот бы их понять… Может быть, одна из запекшихся ран и есть «победа»?
— И колеса спускайте, — распоряжался горчичный
плащ.
Деваха в розовой куртке, гоготнув, вытащила стальную заточку. «На», — сказала она задорно и, взявшись за скошенное лезвие, отдала вперед рукоятью, обмотанной синей изолентой. Мужчина в горчичном плаще, подобрав полы, присел возле колеса и начал колоть. Кто-то встал над ним, наклонив красный флаг, как будто от флага станет светлее. Виктор достал перочинный нож, сел на корточки и заправским движением ввинтился в резину.
Когда разогнулся, людей сильно прибавилось — они громоздили банановые ящики, судачили, запевали, один мужичок в сапогах-казаках и распахнутом китайском бирюзовом пуховике принялся торговать газетами, лихо восклицая их названия: «День», «Гласность», «Русский Вестник», «Пульс Тушино».
Некоторые забрались в троллейбус, Виктор тоже влез и плюхнулся у мутного окна.
Сидевшие увлеченно общались. Виктор слушал с удивлением: они рассуждали, спорили между собой, наверняка уже побывав под дубинками и, несомненно, готовые снова сражаться.
— Был бы жив Тальков, нам бы на баррикадах пел, — заливался беспокойный тенорок. — Он предсказал, что убьют: «И поверженный в бою, я воскресну и спою». Он про Ельцина всё понял и перед смертью спел: «Господин президент, назревает инцидент». Я все его кассеты храню!
— Поймать бы одного омоновца, — вмешался раскованный бабий голос, — засунуть ему дубинку в зад и так пустить! Одного бы хватило. Призадумались бы…
— Сталин нужен, — попер густой бас. — Хозяин. Кто бы простой народ понимал. Сколько разграбили, растащили… Макашов, генерал, вот он точно Советский Союз восстановит!
— Национализм, — стал въедливо объяснять некто скрипучий, — между прочим, замечательная штука. Русские кормили все республики, в особенности, извиняюсь, Средней Азии, и элементарно пупы надорвали. Оно нам надо? Пока одни плодились, мы, извиняюсь, дохли. У любой нации есть свое государство, только у русских нет. Здесь самая мякотка. Россияне — это кто, извиняюсь, марсиане?
— Конституция, главное — конституция, — округло и плавно, с придыханием зазвучал человек, вероятно, мягкий и душой, и телом. — Иначе бандитизм, понимаете?.. Правовое поле, а на нем конституция пасется… священная корова… Надо соблюдать законы — так меня учили с детства. Если он разорвал закон, на котором клялся, чего ждать? Что ему в голову придет?
— Совсем народ замордовали, — опять вмешался тот же бабий грубоватый голос. — Чтоб он там, в Кремле, до смерти ужрался! Чтоб ему паленую подсунули…
<…>
Он шел по Пресненскому Валу, задеваемый мазками огня от фар проезжавших машин, погружаясь в яркие проруби возле комков и выныривая в темноту… Он начинал сомневаться. Видела бы его Лена! Что бы она сказала? Известно что: «Хватит идиотничать!» Вместо работы — проидиотничал часа три.
Чего ради он рискует? Ради России? А кто на самом деле знает, как правильно? А кто ему дороже? Незнакомые и неизвестные, которых гоняют и бьют, или родные Лена и Таня?
Сколько в Москве омоновцев со всей страны! А солдат дивизии Дзержинского! Говорят, еще софринская бригада… Приказ есть приказ. Бить — бьют. А армия? Прикажут — и танки войдут в Москву. Будут стрелять? Будут. В людей? Будут-будут. А закон? Да какой там закон…
Нет, стрелять все-таки не будут. Наверно.
Он свернул во двор старого краснокирпичного здания. Вроде вокруг никого. Отлил у стены. Застегивая ширинку, услышал свист. Кто-то пытался насвистывать, но сбивался.
Виктор повернул голову. Метрах в пяти от него, тускло облитая перекрестным светом, к черной железной двери привалилась фигура в черном костюме.
— Привет! — позвал человек дружелюбно. Виктор не ответил, собираясь отправиться дальше. — Выпить хочешь?
— А есть? — сделал несколько шагов.
— Не топчи!
Виктор зыркнул под ноги, понял, что стоит на рассыпанных белых цветах, и ступил в сторону. Цветы были лилии.
— Привет, старик, — человек качнулся навстречу и слабо хлопнул его по плечу. Плечо заныло, вспомнив сегодняшние удары. — Пойдем к нам…
— Куда?
— На фирму… Вискарь, водяра, шо хошь…
От человека разило именно вискарем — горячо
и грубо.
— Какую еще фирму?
— «Диам», — всхлипнув, боднул в плечо, заболевшее еще сильнее, — «Диам», — уперся в плечо лбом, вероятно, чтобы не свалиться.
— Ладно, покеда, — Виктор отстранился. Человек закачался, свесив лицо вниз, очки соскочили и жалобно звякнули об асфальт. Виктор поднял их — упали между двух белых бутонов, — стекла счастливо спаслись, сунул ему в нагрудный кармашек пиджака и напоследок, зачем-то медля, спросил: — Чего празднуем?
— Друга, — сообщил тот неожиданно внятным голосом, — друга празднуем, Илюху. Илюха Медков, слышал? Да всё о’кей… «Диам». Концерн «Диам». Дорогой Илья… — человек не завалился набок, но двинул всем телом в другую сторону, — Александрович Медков…
— Нет.
— А что ты вообще слышал? «Авизо» слышал?
— Ну. Махинации это, — подтвердил Виктор.
Человек присвистнул:
— Илюха — мой друг и начальник. Он гений, пони¬
маешь? Двадцать шесть лет. Свой самолет. Капусты выше
крыши. А начинал у Тарасова шофером. Артема Тарасова
знаешь? Я Илюхину днюху не забуду: «Метрополь», бассейн с шампанским, все дела, Таня Овсиенко в мини-юбке. Овсиенко слыхал?
Виктор внимал с неподвижным почтением — интересный человек… Человек пожевал губами по-верблюжьи.
— Слыхал… — обрадованно заключил он. — Овси-енко ты слыхал, Таню. Ты запомни: «Диам». Дорогой Илья Александрович Медков. Красиво, да? Илюха себя любил. Лететь должен был в Париж, не улетел, остался. Я с кладбища бухаю какой уж день…
— Так он умер? — спросил Виктор.
— Умер, в двадцать шесть, ага. А три пули не хошь? Здесь лежал, где цветы лежат. Вон оттуда из окна стреляли, с чердака… Вон оттуда, вишь, — вялым тряпичным жестом показал на такое же красное здание напротив, замыкавшее двор. — Ты главное запомни… Осень девяносто третьего года, запомнил? Это раз. Красная Пресня поганая. Два. Снайпер, ес? Илюха хотел, чтобы помнили… Стреляют, такое время, запомни: стреляют… А ско-ко еще зароют!
— Сколько?
— Стоко!
— А почему?
— Время… Время такое: сейчас молодые пули к себе притягивают… Илюха… Илюха хотел, чтобы помнили, нас всех обозвал, чтобы в историю залезть. «Диам», дорогой Илья… — Человек засвистел, оборвался, шатнулся и неловко сел на лилии, вытянув ноги в коричневых штиблетах, весело блестевших шоколадной глазурью даже в тусклом свете двора.
Виктор вышел на Большую Грузинскую. Он ощущал, что встреча была неслучайна. Интересно, а этот тип знает, что происходит рядом: про ОМОН, который лупит, и топчет, и сталкивает по эскалатору? Или он только помнит своего дорогого — вот, бляха, запомнилось — Илью Александровича Медкова? От слова «медок».
Виктор ощущал, что попал в какое-то новое измерение жизни, в котором одно связано с другим и всё важно, где заранее был заготовлен смутный двор с белыми бутонами, в сумерках похожими на шары зефира.
Но это пока не всё, нет, это не всё, — почувствовал он, — на этом сегодня не кончится…
Об авторе
Сергей Шаргунов (р. 1980) — прозаик, главный редактор сайта «Свободная пресса», радиоведущий. Первый роман «Малыш наказан» (премия «Дебют») был издан, когда автору исполнилось 20 лет, затем появились «Ура!», «Птичий грипп», «Книга без фотографий» (шорт-лист премии «Национальный бестселлер»).
Шаргунова называют «социальным писателем». Его новый роман «1993» — семейная хроника, переплетенная с историческим расследованием. 1993-й — гражданская война в центре Москвы. Время больших надежд и больших потрясений. Он и она по разные стороны баррикад. История одной семьи вдруг оказывается историей всей страны.