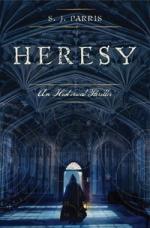Пролог к роману
Монастырь Сан-Доменико Маджоре,
Неаполь, 1576
Наружная дверь с грохотом распахнулась,
эхо раскатилось по коридору, и доски пола
задрожали под уверенными шагами нескольких
пар ног. Я примостился на краю деревянной
скамьи в маленькой каморке, чтобы быть подальше
от выгребной ямы. Что они пришли, я понял
лишь тогда, когда огонек тонкой свечки задрожал
на сквозняке, вызванном вторжением, и на каменной
стене пустились в пляс тени. «Allora»(Ну вот (ит.)), — пробормотал
я, поднимая глаза от книги. Явились за мной наконец.
Шаги замерли у двери нужника, загрохотали удары кулаков, и аббат завопил:
— Брат Джордано! Повелеваю вам выйти сию же минуту
и представить нам то, что вы держите в руках.
Я отчетливо услышал, как хихикнул один из спутников
настоятеля и наш аббат, брат Доменико Вита,
сердито цыкнул на весельчака. Я и сам не сдержал
улыбки. Любые телесные отправления вызывали
омерзение у брата Доменико, — и до чего же ему противно
было вытаскивать одного из своих подопечных
из столь мерзкого убежища!
— Одну минуточку, отец мой, — откликнулся я,
распоясывая рясу, будто я и впрямь пользовался отхожим
местом по назначению. Книга все еще была
у меня в руках. Спрятать ее в складках одежды? Бесполезно:
обыщут, как только выйду.
— Немедленно, брат, — даже сквозь дверь в голосе
брата Доменико отчетливо слышалась угроза. — Вы
сегодня провели в уборной два часа, достаточно,
я полагаю.
— Что-то не то съел, отец мой, — вздохнул я и с величайшим
сожалением бросил книгу в яму. Где-то
внизу чавкнуло, и вонючая жижа засосала ее. А какое
было славное издание!
Я отодвинул засов и распахнул дверь. Вот он,
мой настоятель, — толстые щеки аж трясутся от еле
сдерживаемой ярости. Впечатляющее зрелище, особенно
в свете факелов, которые держит его свита —
четверо монахов. И все четверо смотрят на меня
с ужасом и тайным восторгом.
— Ни с места, брат Джордано, — предупредил
меня аббат, ткнув пальцем мне в лицо. — Довольно
играть в прятки.
Он вошел в уборную, и вонь ударила ему в нос, однако
аббат лишь поморщился и повыше приподнял
факел, чтобы осветить все углы. Ничего не найдя,
он обернулся к своим подручным:
— Обыщите его.
Мои собратья смущенно переглянулись. Вперед
с неприятной ухмылкой на тонких губах выступил
Агостино де Монталкино, тосканская подлюка —
никогда он меня не любил, а уж после того, как я вышел
победителем в споре с ним об арианской ереси,
неприязнь перешла в открытую вражду. Всем направо
и налево он нашептывал, будто я отрицаю
Божественную сущность Христа. Нет сомнения,
это он донес на меня аббату.
— Прости, брат Джордано, — выговорил он, кривя
губы, и принялся водить руками сначала по моим
бокам, потом по бедрам.
— Смотри, не переусердствуй, — буркнул я.
— Всего лишь выполняю приказ старшего, — просюсюскал
Монталкино. Ощупав меня всего, он
выпрямился и обернулся к аббату Доменико, явно
разочарованный: — Под рясой ничего не спрятано,
отец.
Аббат Доменико подступил ко мне вплотную
и с минуту в молчании созерцал меня. Его лицо настолько
приблизилось к моему, что я мог сосчитать
волоски у него в ноздрях и чувствовал сильный запах
лука из его пасти.
— Грех прародителя нашего — жажда запретного
знания. — Он четко выговаривал каждое слово,
то и дело облизывая губы. — Он хотел уподобиться
Богу. Таков и твой грех, брат Джордано Бруно. Ты
один из наиболее одаренных молодых людей, каких
я встречал за годы служения в Сан-Доменико Маджоре,
но любопытство и гордость ума препятствуют
тебе обратить этот дар Господа во славу Церкви. Настало
время предать тебя отцу инквизитору.
— О нет, отец мой… Я же ничего дурного… — взмолился
я.
Аббат уже повернулся, чтобы уйти, и свой вопль
я обращал к его спине, однако тут за моей спиной
радостно взвыл Монталкино:
— Брат Доменико! Тут что-то есть!
Он направил свет факела в зловонную дыру,
и на лице моего недруга расплылась гнусная улыбка.
Брат Вита побледнел, но послушно склонился
над выгребной ямой, высматривая, что там нашел
тосканец. Разглядев, он обернулся ко мне и приказал:
— Отправляйся в свою келью, брат Джордано,
и оставайся там до моего приказа. Мы немедленно
вызовем отца инквизитора. Брат Монталкино, достаньте
оттуда книгу. Сейчас мы узнаем, какой некромантии
и ереси наш брат предается с усердием,
какого никогда не выказывал в изучении Святого
Писания.
Монталкино в замешательстве переводил взгляд
с аббата на меня, ослушника. Я-то просидел в отхожем
месте два часа и вроде как притерпелся, принюхался,
но ему засунуть руку в яму под деревянным
настилом… уф! Так что я лишь еще шире улыбнулся
брату Монталкино.
— Я, господин мой? — заныл монах.
— Ты, брат, и поскорее. — Аббат поплотнее закутался
в рясу от пронизывающего ночного ветра.
— Зря вы так мучаетесь, — вмешался я. — Это всего
лишь Эразм Роттердамский, а не черная магия.
— Сочинения Эразма включены инквизицией
в список запрещенных книг, о чем тебе прекрасно
известно, брат Джордано, — угрюмо проворчал
аббат, уставившись на меня своими тупыми глазками.
— Однако мы должны удостовериться. Полно
нас дурачить, настала пора проверить чистоту
твоей веры. Брат Батиста! — окликнул он одного
из факелоносцев; монах подался вперед, весь внимание.
— Пошли за отцом инквизитором.
Пасть на колени и молить о пощаде? Унизиться
и утратить самоуважение? Бесполезно: аббат Доменико
ревностно исполняет все правила. Если уж
он счел нужным отдать меня в руки отца инквизитора
в назидание и устрашение братии, то не отступится,
пока не доведет дело до конца. А я, к ужасу
своему, хорошо представлял, каков будет этот
конец. Не унижаясь более, я опустил капюшон
на лицо и последовал за аббатом и его подручными,
бросив лишь злорадный взгляд на подлеца Монталкино:
тот засучивал рукава, готовясь лезть в дерьмо
за моим Эразмом.
— Повезло тебе, брат, — подмигнул я на прощание.
— Мое пахнет куда слаще, чем у прочих.
Доносчик поднял голову, дернул брезгливо губой.
— Посмотрим, как ты будешь острить, когда тебе
в зад воткнут раскаленную кочергу.
Да, христианское милосердие для него, похоже,
пустой звук.
Наружные переходы продувал ледяной неаполитанский
ветер, но все равно это было куда приятнее,
чем смрад отхожего места. Со всех сторон громоздились
каменные строения монастыря, крытая
галерея, по которой мы шли, скрывалась в их тени.
Слева нависал огромный фасад базилики. Я чувствовал,
как с каждым шагом ноги мои тяжелеют,
и заставил себя поднять голову, чтобы разглядеть
над куполом базилики звезды.
Следуя Аристотелю, Церковь учила, будто
звезды располагаются на восьмой сфере, все на равном расстоянии от Земли, и движутся вокруг нее
по своим орбитам, точно так же, как Солнце и семь
планет. Лишь немногие люди, и среди них поляк
Коперник, дерзнули представить Вселенную иначе:
в центре ее — Солнце, вокруг которого вращается
Земля по своей орбите. Дальше этого никто помыслить
не смел — никто, кроме меня, Джордано Бруно
из Нолы, — и тайная моя мысль, куда более смелая,
чем все прежние, была покуда известна мне одному:
нет у Вселенной центра, ибо она бесконечна. Каждая
звезда, что мерцает сейчас надо мной в бархатной
тьме, сама есть солнце, окруженное собственными
планетами, и на каждой из этих дальних
планет в эту самую минуту создания, подобные
мне, так же созерцают небеса, дивясь и гадая, существует
ли нечто за пределами их познаний.
Однажды, быть может, я сумею написать об этом
книгу, которая станет главным трудом моей жизни
и которая потрясет устои так же, как Коперникова
De Revolutionibus Orbium Coelestium (Об обращении небесных сфер (лат.).), и даже сильнее,
ибо эта моя книга изобличит заблуждения
не одной только Римской церкви, но всего христианства.
Но прежде мне нужно еще многое осмыслить,
прочесть еще множество книг, одолеть труды
по астрологии и древней магии, а они все запрещены
уставом доминиканцев и в библиотеке Сан-Доменико
Маджоре мне их никогда не выдадут. Но,
думал я, если я предстану перед святой инквизицией
прямо сейчас, меня каленым железом и дыбой
вынудят изложить мою гипотезу, непродуманную, недозрелую, после чего просто-напросто сожгут
как еретика. Мне исполнилось всего двадцать восемь
лет, и я не хотел умирать. Единственное спасение
— бежать.
Вечерняя служба только что закончилась, и монахи
Сан-Доменико Маджоре готовились отойти
ко сну. Ворвавшись в келью, где мы жили с братом
Паоло из Римини, я заметался по тесному помещению,
торопливо запихивая в кожаный мешок свои
немногочисленные пожитки.
В тот момент, когда я распахнул дверь, Паоло
в задумчивости лежал на своем соломенном матрасе;
при виде меня он приподнялся, опираясь
на локоть, и с тревогой посмотрел на мной. В пятнадцать
лет мы одновременно стали послушниками
в этом монастыре, и сейчас из всей братии только
его я и считал подлинно своим братом.
— Они послали за отцом инквизитором, — пояснил
я, остановившись на миг и переводя дыхание. —
Времени терять нельзя.
— Ты снова пропустил вечерю, Бруно. Я же тебя
предупреждал, — качая головой, завел Паоло, —
если каждый вечер засиживаться в отхожем месте,
рано или поздно люди обратят на это внимание.
Брат Томассо всем направо и налево рассказывает,
как плохо у тебя с кишками, но я тебе говорил:
не ровен час, Монталкино проведает, чем ты там
занимаешься на самом деле, и донесет аббату.
— Всего лишь Эразм, во имя Иисуса! — фыркнул
я. — Паоло, мне надобно сегодня же бежать,
пока не учинили допрос. Где мой зимний плащ?
Лицо Паоло омрачилось.
— Бруно, ты же знаешь: доминиканец не смеет
покидать свой монастырь под страхом изгнания
из ордена. Если ты сбежишь, это будет все равно
что признание, и инквизиция выдаст ордер на твой
арест. Тебя осудят как еретика.
— А если я останусь, меня все равно осудят, — возразил
я, — так уж лучше in absentia (Заочно (лат.).).
— Куда ты пойдешь? Чем будешь жить? — Друг мой
искренне скорбел обо мне.
Я прервал свои сборы, присел возле него и положил
руку ему на плечо.
— Идти буду по ночам, проголодаюсь — спою,
или спляшу, или поклянчу хлеба. А как окажусь подальше
от Неаполя, наберу учеников и уж на жизнь
себе заработаю. В прошлом году я получил степень
доктора богословия, а университетов в Италии предостаточно.
Я старался говорить весело и бодро, хотя сердце
колотилось, а в кишках все бурлило. И это было самое
ужасное: сейчас бы в уборную, да нельзя.
— В Италии ты всегда будешь в опасности, если
инквизиция провозгласит тебя еретиком, — печально
молвил Паоло. — Они не успокоятся, пока
не отправят тебя на костер.
— Ну, так я постараюсь до этого убраться
из страны. Поеду во Францию.
Я снова занялся поисками плаща. В памяти моей
вспыхнул некий образ — так же отчетливо, как
в тот день, когда я это увидел: грешник на костре.
В смертной муке он запрокинул голову, уклоняясь
от языков пламени. Этот безнадежно-отчаянный
жест я вспоминал все последующие годы: человек
пытается укрыть от огня глаза и губы, но голова
его привязана к шесту. С тех пор я избегал этого поучительного
зрелища и никогда не ходил смотреть
на казни.
Но в ту пору мне было двенадцать лет; мой отец,
честный воин и столь же честный христианин, взял
меня с собой в Рим, дабы в поучение и наставление
показать мне публичную казнь. У нас было удобное
место для наблюдения, на Кампо-деи-Фьори, в тылу
напиравшей толпы; оттуда было все хорошо видно,
и я еще удивился, помню, сколько народу явилось
заработать на казни, словно на травле медведей
или на сельской ярмарке: тут и какие-то брошюры
продавали, и просили подаяния босоногие монахи,
мужчины и женщины бродили среди зевак с подносами
на шее, предлагая хлеб, печенье, жареную
рыбу. Все это было для меня неожиданно. Но куда
сильнее поразила меня жестокость этой толпы. Народ
осыпал приговоренного не только насмешками,
но и камнями; его проклинали, в него плевали, а он
в молчании, низко склонив голову, шел на костер.
Отчего он молчит, гадал я? Из смирения или же
из презрения к нам? Но отец объяснил, что язык
еретика пронзен железным шипом, дабы не мог он
в последнюю минуту соблазнить никого из собравшихся
своими еретическими речами.
Его привязали к столбу, навалили вокруг хворост,
так что несчастного почти и видно не стало.
К дровам поднесли факел; дерево, как видно,
было чем-то пропитано: вспыхнуло сразу и, искря
и треща, яростно запылало. Отец одобрительно
кивнул: иной раз, пояснил он, судьи из милосердия
приказывают положить сырые дрова, и тогда приговоренный
задыхается от дыма прежде, чем его
еретическая шкура хорошенько прожарится. Однако
самых заядлых еретиков — ведьм, лютеран,
бенанданти — сжигают на хворосте сухом, точно
склоны горы Чикала среди лета, чтобы нестерпимый
жар истерзал негодяя и тот с последним вздохом
воззвал в искреннем раскаянии к Господу.
Когда языки пламени взметнулись к лицу несчастного,
я хотел отвернуться и не смотреть;
но за моей спиной, прочно расставив ноги, стоял
отец и не отводил взгляда, как будто следить
за этими невыразимыми муками было его долгом
пред Господом, — не мог же я выказать себя менее
храбрым или менее набожным, чем отец.
Я слышал заглушенные вскрики, вырывавшиеся
из распяленного рта мученика, когда лопались его
глаза, я слышал, как с шипением и треском лопается
и оползает его кожа, видел кровавое месиво под ней,
я ощущал запах паленой плоти, так ужасно схожий
с запахом жареной свинины: на праздники у нас в
Ноле всегда в специальной яме жарили целого поросенка.
А толпа радостно вопила, глядя, как еретик в
мучениях испускает дух, — точь-в-точь как вопили и
веселились ноланцы в праздничные дни.
По пути домой я спросил отца, за что этот человек
принял столь тяжкую смерть. Был ли он человекоубийцей? — спрашивал я. Нет, отвечал мне отец,
это был еретик. Когда же я стал расспрашивать,
кто такой еретик и в чем его вина, отец сказал, что
этот человек насмеялся над властью папы, ибо отрицал
чистилище. Так я узнал, что в Италии слово
и мысль могут быть приравнены к убийству и что
философу, мыслителю потребно столько же отваги,
дабы высказать свое мнение, сколько солдату, идущему
в бой.
Где-то недалеко громко хлопнула дверь.
— Они идут! — отчаянно шепнул я Паоло. — Куда
к черту запропастился мой плащ?
— Держи! — Он накинул на меня свой плащ, завязал
мне тесемки под горлом. — И вот, возьми. — Он
вложил мне в руку маленький кинжал с костяной
рукоятью и в кожаных ножнах; интересно, откуда
он у него. — Подарок отца, — негромко сказал Паоло.
— Тебе он нужнее. А теперь — поспеши.
Сначала мне предстояло протиснуться в узкое
окошко нашей кельи и сперва одной ногой, затем
другой ступить на карниз. Мы жили на втором
этаже, а шестью футами ниже находилась покатая
крыша уборной. Я мог спрыгнуть на нее, надо было
лишь точно рассчитать прыжок. После этого оставалось
только сползти вниз по столбу и пробежать
через сад. Главное, чтобы никто не заметил. Тогда
я переберусь через стену монастыря и растворюсь
на улицах Неаполя под покровом ночи.
Спрятав кинжал под рясу, я закинул мешок
за плечи, перебросил одну ногу через подоконник
и замер на миг. Над городом висела бледная,
какая-то пухлая луна. Везде тишина. Я висел между
двух своих жизней: тринадцать лет я провел в монастыре,
но еще мгновение — я переброшу через подоконник
другую ногу, спрыгну вниз — и навсегда
исчезнет монах Джордано Бруно. Паоло был прав:
за побег из монастыря меня отлучат, даже если я сумею
очиститься от других обвинений. Брат Паоло
скорбно взглянул на меня и коснулся моей руки, я,
склонившись, поцеловал его пальцы. И тут в коридоре
загремели шаги множества ног.
— Dio sia con te (Бог с тобой (ит.)), — шепнул на прощание Паоло.
Я протащил свое тело сквозь узкое окошко, повис
на кончиках пальцев, почувствовал, как рвется
зацепившаяся за что-то ряса. Вверив себя Богу
и случаю, я спрыгнул, неловко свалился на крышу
под окном и услышал, как надо мной захлопнулось
маленькое окошко. Главное, Паоло успел его закрыть
прежде, чем те вошли.
Лунный свет для беглеца и спасение, и проклятие.
Я жался в тень, пересекая сад позади монастырских
зданий; дикий виноград, увивший наружную
стену, помог мне перебраться через ограду
монастыря. Я спрыгнул со стены, скатился по откосу
к дороге и тут же поспешил укрыться в тени
на обочине, умоляя ночь не выдавать меня: всадник
на черном коне галопом скакал по узкой улочке к монастырю,
плащ грозно развевался у него за спиной.
Лишь когда всадник свернул к главным воротам
и уже поднимался в гору, я отважился поднять голову.
Сердце стучало где-то под горлом — и по узким
полям его шляпы я узнал этого человека: местный
отец инквизитор спешил допросить меня.
В ту ночь я шел, пока не изнемог, и тогда только
уснул в канаве на окраине города, кое-как закутавшись
в плащ Паоло. На второй день я заработал
себе приют и полбуханки хлеба, поработав в конюшне
придорожной гостиницы. Но едва я лег
спать, какой-то бродяга набросился на меня, расквасил
нос, сломал ребро и отобрал мой хлеб. Спасибо,
хоть не зарезал: в скором времени мне предстояло
узнать, как часто в гостиницах и тавернах
на дороге в Рим пускают в ход ножи.
На третий день я одолел более половины пути
до Рима. К этому времени я стал бдительнее. Свобода
пьянила меня, но все же я тосковал по привычной
монастырской рутине — ведь она так долго
составляла мою жизнь. Теперь же мной руководила
лишь моя собственная воля. Я направлялся в Рим —
прямиком в львиное логово — и готов был сыграть
с судьбой в кости: либо начну жизнь заново свободным
человеком, либо инквизиторы выследят меня
и отправят на костер. Я уж постараюсь, думал я,
чтоб не выследили: умереть за веру я готов, но неплохо
бы сперва разобраться, в чем она, моя вера.