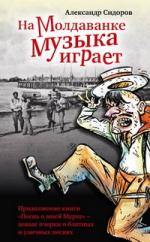- Издательство «ПРОЗАиК», 2012 г.
- В книге писателя, журналиста и исследователя уголовной субкультуры и низового фольклора Александра Сидорова собраны очерки о знаменитых блатных и уличных песнях — «На Молдаванке музыка играет», «Плыви ты, наша лодочка блатная», «Когда я был мальчишкой», «Митрофановское кладбище» и др. Как и в своей известной книге «Песнь о моей Мурке», автор рассказывает не только об истории создания жемчужин «блатной классики», но и о многих связанных с ними малоизвестных исторических и житейских фактах. Читатель сможет узнать много интересных сведений о строительстве Беломорско-Балтийского канала, о развитии судопроизводства на заре Советской власти, о взлете и падении партии эсеров, а также, при желании, разобраться в таких специфических темах, как основы рукопашного «хулиганского боя», классификация ножей и кинжалов и «кокаинизация» России в первые десятилетия прошлого века.
Блатные песни… За что же любил их писатель Фадеев? Видно,
за то, что в них рассказывалось о некоторых сторонах нашей жизни, о которых не принято было ни писать, ни говорить и которые
характеризовали советское общество не с лучшей стороны. Вполне
возможно, что воровские песни поражали Александра Александровича отчаянным криком подчас несправедливо израненной,
а то и загубленной души, последним «прости» родным и друзьям-товарищам«.
В ряду интеллигентов, попавших под безоговорочное обаяние
песенного русского блата, назовём и Андрея Синявского. Эта страсть
у Андрея Донатовича проявилась ещё во время его учёбы в университете. Именно она сблизила Синявского с молодым актёром Владимиром Высоцким. И она же привела Синявского на скамью подсудимых — вместе с упоминавшимся уже Юлием Даниэлем. Оба
они с 1956 по 1965 год тайно печатались за границей, причём под
именами персонажей блатного песенного фольклора — Абрама
Терца (Синявский) и Николая Аржака (Даниэль).
Процесс над Синявским и Даниэлем явился знаковым для
истории СССР, он ознаменовал собой обострение дикой травли
свободной мысли в стране и расцвет движения диссидентов. К нашей теме это имеет прямое отношение, так что есть смысл хотя бы
в общих словах рассказать о позорном судилище. К тому же оно
в рамках нашей темы обретает некий мистико-саркастический
смысл. Ведь «врагами нации» оказались… блатные фольклорные персонажи! То есть Комитет госбезопасности СССР долгое
время вёл поиск именно этих таинственных негодяев. Конечно,
бдительным чекистам в конце концов удалось выяснить, что ни
в Стране Советов, ни за её пределами таковых лиц не существует. Но на это понадобилось… почти десять лет! Увы, парни с холодной головой и горячим сердцем были плохо знакомы с родным
уголовным фольклором. Иначе бы круг поисков быстро сузился.
Не в тех бумажках рылись. А ведь говорила Баба Яга в сказке Леонида Филатова: «Я фольклорный элемент, у меня есть документ».
Вот тут и надо было брать! С помощью Мурки, Васьки-Шмаровоза
и Кольки-Ширмача…
Итак, «фольклорных элементов» арестовали. Процесс над
Терцем и Аржаком начался 10 февраля 1966 года и закончился
14 февраля. Прошёл лишь год после смещения Никиты Хрущёва,
с его политической «оттепелью». Ещё не развеялся дух свободы,
«вольный ветер» надежды на значимость для верхов общественного мнения. За Синявского и Даниэля пытались вступиться Илья
Эренбург, Константин Паустовский, Арсений Тарковский, Виктор
Шкловский, Белла Ахмадулина, Юрий Нагибин, Булат Окуджава
и многие другие. Был задержан и упрятан в психушку
Владимир Буковский, ставший впоследствии известным правозащитником. Именно его после переворота в Чили обменяли на главу
чилийской компартии Луиса Корвалана, а народ по этому поводу
сочинил частушку:
Обменяли хулигана
На Луиса Корвалана.
Где бы взять такую блядь,
Чтоб на Брежнева сменять?!
Демарш энтузиастов и волна протестов сделали своё дело:
власти под напором общественности были вынуждены пойти на открытый процесс. Хотя открытым его можно назвать условно: вход
в зал судебных заседаний осуществлялся по специальным «пригласительным билетам», действительным на одно представление.
Наиболее оскорбительным для власти стало то, что оба писателя не
признали своей вины и не покаялись. Это уже был открытый плевок
в лицо системе. Соответственно Абрашка Терц получил семь лет лишения свободы, Николай Аржак — пять лет.
Далее следует опять-таки сплошной фарс — в лучших блатных традициях. Михаил Шолохов обрушивается на «отщепенцев»
с трибуны ХХIII съезда КПСС: «Попадись эти молодчики с черной
совестью в памятные двадцатые годы, когда судили, не опираясь
на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а руководствуясь революционным правосознанием (аплодисменты),
ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни!» И всё бы
славно — но автор «Тихого Дона» произнёс пылкую обличительную речь… первого апреля, во Всемирный день дурака! Из других
насмешек фортуны можно вспомнить и то, что в качестве эксперта произведений Аржака и Терца для суда была приглашена…
детская писательница Агния Барто (сочинившая разгромный отзыв). Видимо, судья Смирнов, разбиравший дело двух диссидентов, к месту вспомнил знаменитый стишок Барто «Мы с Тамарой
ходим парой».
Именно благодаря этой судебной расправе мифические
персонажи Абрам Терц и Николай Аржак выросли до мировых
масштабов. Более того: «блатная мистика» сыграла свою роль
в судьбах Синявского и Даниэля. Андрей Синявский, «ожививший» Терца, после освобождения стал известнейшим литератором. До конца жизни он подписывал большинство своих работ
именно так — Абрам Терц. И всегда подчёркивал, что в нём, в Синявском, живут два человека. Юлий Даниэль, напротив, сразу после суда «убил» Кольку Аржака, полностью отказавшись от этой
литературной маски. И что? Выйдя на свободу, Даниэль отошёл
от литературы, лишь время от времени занимаясь переводами.
Тот, кто накрепко связал свою жизнь с уголовным псевдонимом,
состоялся как самобытный, успешный писатель. Тот, кто отказался от хулиганского «я», фактически перестал существовать
как творческая личность. Это, конечно, можно считать случайно-
стью, совпадением…
И ещё об одном хочется сказать — о пресловутой «уникальности» русской уголовной, блатной песни. Само по себе это утверждение не вызывало бы отторжения, если бы только уникальность эта
не связывалась многими с нашей «дикостью», «зверством», якобы
врождённой, впитанной с молоком матери тягой ко всему преступному.
Позволю себе не согласиться с тем, что уголовная и арестантская песни — чисто русское изобретение, не имеющее аналогов
в мире. Мне часто приходится слышать подобные измышления —
в самых разных вариациях. Порою говорят, что уникален «русский
шансон» в его блатном сегменте. Кто-то заявляет, что в других странах уголовная песня существует исключительно в пределах мест
лишения свободы или уличных банд. Ни то, ни другое, ни третье не
соответствует истине.
Журналист Андрей Мирошниченко пишет в статье «Шансонизация и сексизм»: «Историческое и нынешнее количество
сидельцев, безусловно, влияет на распространение блатной субкультуры. Ещё одна страна, где уголовная среда создала свою
субкультуру, вышедшую за пределы тюрем, — это США… США
и Россия с заметным отрывом лидируют по числу заключённых
(в процентном отношении к населению). В США наиболее яркое
проявление уголовной субкультуры имеет заметный расовый
окрас: рэп — песни чёрной криминальной среды. Негритянский
блатняк.
И вот — злая насмешка истории над идеологическими баталиями Хомякова и Чаадаева. Современный „славянофил“ слушает
русский блатняк, а современный „западник“ — блатняк негритянский. Но всё равно блатняк. И хотя они по-прежнему непримиримы, но не такая уж и большая идеологическая разница теперь между ними. В общем-то, только в ритме. Ну, ещё в штанах с провисшей
мотнёй. А по сути, как ни собирай, всё равно пулемёт получается».
Вполне допускаю, что русский шансон можно сопоставлять
с рэпом. Что же касается классической блатной песни, такое сравнение неуместно. Русская уголовно-арестантская, низовая песня —
исторична по сути своей. То есть она отражает эпоху во всём её разнообразии. Скажем, один из оппонентов Андрея Мирошниченко,
выступающий под ником Alz, пишет:
«Смысл рэп-песен абсолютно идентичен русскому блатняку.
Вот текст рэпера 50сента Every Gangsta Every Hood:
Every Gangsta in every hood
U know we up to no good
We got the gunz that yall need
we like to smoke on that weed
We drive 20’s on big trucks
and yall know we just dont give a fuck
А вот наша блатная песня:
Братцы, поглядите на меня,
Гоп со смыком — это буду я,
Ремеслом я выбрал кражу,
Из тюрьмы я не вылажу,
И тюрьма скучает без меня.
Смысл — абсолютно идентичен».
Однако это — поверхностный взгляд. На самом деле «Гоп со
смыком» при тщательном изучении вырастает в историческую балладу. Текст позволяет определить время и место её создания, а также множество фольклорных, литературных и иных источников, которые вдохновили неведомых сочинителей (от «Песни о бражнике»
и «Гаргантюа и Пантагрюэля» до богохульной студенческой песенки «Там, где Крюков канал» и кинофильма «Аэлита»). Кроме того,
«Гоп» в многочисленных вариациях отразил десятилетия советской
действительности и конкретные события эпохи. Между тем песенка «Пятидесятицентовика» остаётся примитивным опусом чёрных
«гопников», который перекликается с русской балладой только
в одном из куплетов.
Антон Табах, указывая, что с русским «блатняком» можно
сравнить не только рэп, но и кантри, рассказывает: «В Штатах блатная культура куда шире рэпа — вскоре после моего поселения в тех
краях мы как-то с приятельницей из глухой миссурийской дыры
слушали её нежно любимого певца кантри… я стал про себя переводить текст… и стал смеяться в голос… он был абсолютно идентичен песне „Постой, паровоз“… некий зэк прощался с мамой перед
отправкой в тюрьму». Но опять-таки речь идёт о внешних, поверхностных перекличках, в то время как «Постой, паровоз» — переделка дореволюционного городского романса, причём песня известна
в разных вариантах, отражающих особенности среды, в которой она
культивировалась и изменялась: от кулацко-ссыльной до заводской
с принудительно-рабским трудом.
Повторяю: за каждой русской уголовной песней — Великая
История страны и её народа, история метаний, страданий, побед
и поражений. Ни кантри, ни рэп — и рядом не стояли. Возможно,
когда-нибудь, со временем уголовные песенки кантри тоже могут
стать удивительным, интереснейшим свидетельством эпохи. Потому что сегодня «довлеет дневи злоба его», но назавтра этот день
становится вчерашним, а через десятки лет — глубокой древностью. И если песня эту древность переживёт, значит, она станет
фактом национальной культуры. Пусть даже с уголовным уклоном. Что ж с того?
Песни уголовного мира есть и у итальянцев (странно было
бы их отсутствие на родине мафии!) — их нарыл тот же Alz: «Как
пацану стать членом банды» (Pi fari u giuvanottu i malavita), «История одного калабрийского заключённого» (La storia di un carcerato
calabrese), «Частушки арестантские» (Stortnelli di carceratu), «Песня
про понятия» (Omerta`), «Мафиози» (L’Omu d’onuri), «Прощай, банда» (Addio ’ndrangheta) и т.д.
Не миновала чаша сия и китайцев. В
тоже приобрели популярность «тюремные песни». Начало течению
положил Чи Чжицян, писавший на народные мелодии стихи о своём
пребывании в тюрьме. «Тюремные песни» отличались медленным
ритмом, «жалобным» исполнением. В них часто использовалась ненормативная лексика, песни были полны цинизмом и отчаянием.
Китайское общество к тому времени устало от эстрадного официоза, насквозь пропитанного идеологическими догмами, поэтому
«тюремные песни» подхватила городская молодёжь, а продвигали
эту продукцию в массы частные антрепренёры, выходцы из маргиналов.
И всё же перечисленные явления, скорее, сопоставимы
с русским шансоном, но не с российским классическим «блатом».
В некоторой близости к нему находятся разве что мексиканские
народные песни «корридос», снискавшие особую популярность
во времена мексиканской революции 1910 года — первой социальной революции, предвестницы российской. Во главе ее стояли
личности легендарные: пастух Франсиско Вилья, ставший генералом, и индеец Эмилиано Сапата в сомбреро с образком Пресвятой
Девы Гваделупской, сражавшийся за землю и свободу во главе армии крестьян, вооружённых мачете. О них и о других героях революции — жестокой, кровавой, унесшей более миллиона жизней —
сложены самые яркие исторические «корридос». А жанр возник
ещё раньше как часть фольклора поселенцев Юго-Запада США —
мексикано-американцев, называвших себя «чиканос», боровшихся за свои права против «проклятых гринго», то есть пришельцев
из Североамериканских Соединённых Штатов. Для колонизаторов
«чиканос» были уголовниками — бандитами, разбойниками, убийцами. Сами же они считали себя борцами за свободу. Да, «корридос» в определённой степени созвучны российской классической
блатной песне. Именно своей историчностью, а не смакованием
уголовного бытия и «романтики».
Мне неизвестно, насколько развито в Мексике изучение жанра «корридос». Могу предполагать, что в достаточной мере. Да и сам
жанр живёт до сих пор как народная песня, отражающая реальные
события. Например, в октябре 2001 года радиостанции в северной
Мексике были заполнены песнями народных исполнителей, откликнувшихся на теракт 11 сентября в США: «Чёрное
заказывают больше всего. По его словам, многие люди узнавали из
песен больше, чем из новостей.
У нас в России, к сожалению, исторические блатные песни
как часть отечественного культурного наследия долго не изучались.
Пришло время этот пробел восполнить. Но работа требует огромных усилий, кропотливости, поисков: слишком много времени упущено…
Настоящая книга — попытка наверстать упущенное. Надеюсь,
и эта моя работа будет встречена читателями благосклонно.
Александр Сидоров