- Максим Матковский. Секретное море. Рукопись.
Ставь лайк и листай дальше. Или не ставь — отписывайся, отметь как оскорбление, спам, порнографию. Роман подобен ленте новостей, с той лишь разницей, что фрагменты, какими бы разнородными ни казались, связаны воедино.
Наша сказка рассказывается каждый день, и она про чудовищ, отрубленные руки и туберкулез.
Кто любит такие сказки? Да мы же и любим — именно потому, что знаем их все наизусть.
«Секретное море» покажется смутно знакомым всем, кто читал стихотворения Максима Матковского. Те же темы, те же мотивы: от кулинарно-экзистенциальных (смерть-суп, пирог с печалью — привет Ольге Арефьевой) до визуально-инфернальных (волосы цвета крови сатаны, черные дыры в груди) — но дело не только в этом.
Этот роман слишком созвучен нашей повседневности. Даже без вычета кровавой фантастики (иногда — совершенно в духе треш-романов Масодова) получаем все то же, что видим каждый день — не в реальности, так в социальных сетях. «Секретное море» должно было появиться именно сейчас, когда мы смеемся над офисным бытом рисованных толстяков Евы Морозовой, когда мультфильмы перестали быть детскими (кто решится показать ребенку «Мистера Пиклза»?), когда развлекательный паблик называется «Лепра».
Живущие где-то между адом и гастрономом «Вкусненький», герои Матковского — на полпути от бытовухи к вечности.
Петя сказал Леониду: Жизнь смотрит на меня пустыми глазницами. Не хочешь выпить пива после работы в кафе-баре «Черемуха»?
Стилистически роман одновременно напоминает произведения Ионеско, «Наивно. Супер» Эрленда Лу, учебники русского для иностранцев и абсурдистские пародии на буквари «Key Words Reading Scheme» — это клиповый текст, состоящий из множества маленьких фрагментов. «Секретное море» собрано, склеено из кусочков сектантской брошюры «Пирог с печалью», из бессмысленных и значимых разговоров, из дрянных анекдотов и действительно смешных шуток, из выдумок жестоких, мерзких — и неожиданно лиричных, как история об отце Алексея, или трогательных, как описание новогоднего торжества. Все смешано: уютное описание праздника, где собрались все соседи, следует сразу за подробным описанием убийства и пыток. Практически каждый из микрорассказов — самостоятельная история:
Александр хотел убить Николая, потому что тот переспал со Светой.
Николай хотел убить Рому, потому что тот переспал со Светой.
Рома хотел убить одноногого пляжного продавца пахлавы, потому что тот следующей ночью переспал со Светой.
Николай прятался от Александра в прохладном баре на берегу моря.
Рома прятался от Николая в абрикосовом саду на берегу моря.
Одноногий продавец пахлавы от Ромы не прятался, потому что пахлаву все равно продавать надо.
Продавец пахлавы сказал друзьям: Успокойтесь, я угощу вас пахлавой.
И друзья успокоились.
Роман состоит из множества микроглав, и подобная композиция вторит идее разрушенного мира. Мир расколот, и каждый день жители заброшенной швейной фабрики подбирают его черепки, выискивая нечто, что поможет найти ответы на вопросы, не произносимые вслух. Здесь мысль изреченная — ложь вдвойне, за пустыми разговорами прячется сокровенное. Каждый из жильцов проклятого общежития боится вовсе не Старухи, не щупалец, высасывающих по каплям жизнь, — больше всего они боятся самих себя. И побеждают не в тот момент, когда найден ключ и повержен враг — а когда могут признаться, что каждый слышит за гаражами шум волн.
Они думали: если мы заговорим не о картошке, луке и плохой погоде, если мы вдруг посмотрим друг другу в глаза, то может произойти нечто ужасное. Мы взорвемся или сойдем с ума.
Взорвутся не люди — рухнет, сотрясаясь, здание заброшенной фабрики. То ли погребя под обломками всех жильцов разом, то ли — и в самом деле открыв путь к секретному морю.






 Под одной обложкой собраны три эссе, написанные в 1930-х годах. Фотография к этому моменту уже стала достаточно распространенной, но общество еще не привыкло к повсеместному внедрению этого вида искусства — предмет еще не изучен, серьезные трактаты еще не созданы. Беньямин первым берется за написание истории фотографии и становится одним из самых авторитетных авторов, несмотря на то, что его тезисы иногда спорны и даже наивны и будут потом множество раз опровергнуты. Однако изучение феномена фотографии в дальнейшем невозможно представить без понятия «ауры», ради которого, несомненно, необходимо ознакомиться с первоисточником, чтобы понимать, к чему делают отсылки последователи Беньямина. Эта книга — чтение не из легких, но если уж читать ее, то с трепетом, как манускрипт.
Под одной обложкой собраны три эссе, написанные в 1930-х годах. Фотография к этому моменту уже стала достаточно распространенной, но общество еще не привыкло к повсеместному внедрению этого вида искусства — предмет еще не изучен, серьезные трактаты еще не созданы. Беньямин первым берется за написание истории фотографии и становится одним из самых авторитетных авторов, несмотря на то, что его тезисы иногда спорны и даже наивны и будут потом множество раз опровергнуты. Однако изучение феномена фотографии в дальнейшем невозможно представить без понятия «ауры», ради которого, несомненно, необходимо ознакомиться с первоисточником, чтобы понимать, к чему делают отсылки последователи Беньямина. Эта книга — чтение не из легких, но если уж читать ее, то с трепетом, как манускрипт.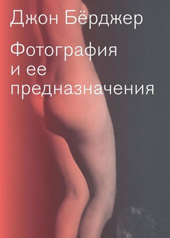 Набор разноплановых эссе, объединенных неподражаемым исследовательским пылом, заслуживает внимания еще и потому, что автор очень трепетно и внимательно относился к своим заметкам. Одного взгляда на оглавление хватит, чтобы понять, что волновало исследователей и творцов фотографического искусства во второй половине XX века. В первую очередь стоит обратить внимание на рассказ о том, как фотография отвоевала себе право на звание искусства (что не мешает об этом спорить и писать еще и еще), и о том, как процесс упростился и стал доступен практически всем (что максимально расширило мировое господство фотографии и вызвало еще больше вопросов о ее предназначении). Политические события и военные действия теперь могут быть засняты на пленку, однако возникает другая проблема — потенциальная фальшь фотомонтажа. Берджер с энтузиазмом откликается на все эти волнения, разбавляя реакцией на них глобальные рассуждения о выдающихся личностях.
Набор разноплановых эссе, объединенных неподражаемым исследовательским пылом, заслуживает внимания еще и потому, что автор очень трепетно и внимательно относился к своим заметкам. Одного взгляда на оглавление хватит, чтобы понять, что волновало исследователей и творцов фотографического искусства во второй половине XX века. В первую очередь стоит обратить внимание на рассказ о том, как фотография отвоевала себе право на звание искусства (что не мешает об этом спорить и писать еще и еще), и о том, как процесс упростился и стал доступен практически всем (что максимально расширило мировое господство фотографии и вызвало еще больше вопросов о ее предназначении). Политические события и военные действия теперь могут быть засняты на пленку, однако возникает другая проблема — потенциальная фальшь фотомонтажа. Берджер с энтузиазмом откликается на все эти волнения, разбавляя реакцией на них глобальные рассуждения о выдающихся личностях.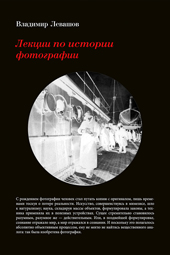 Академично и скрупулезно, несколько сухо и безлично, зато с огромным количеством имен, цитат, сносок и пояснений Владимир Левашов ведет рассказ об изменении роли фотографии в мире и об изменении мира посредством фотографии. Важность книги в первую очередь в том, что в ней затрагивается не только — как обычно — художественная фотография и ее эволюция, но и документальная, социальная и научная. Автор рассказывает о коммерческих снимках, о появлении салонов и об оплате работы моделей, о форматах изображениях, подходах к съемке и печати, о том, кому, когда и зачем фотография стала необходима. Повествование начинается с долгой и подробной истории изобретения фотографии и, проходя сквозь все сферы жизни, где она оставила свой след, заканчивается в 1970 году «смертью автора». Что было дальше, можно узнать у Барта и Сонтаг. Эту книгу нужно читать вдумчиво, отвлекаясь на поиски дополнительной информации об упоминаемых личностях.
Академично и скрупулезно, несколько сухо и безлично, зато с огромным количеством имен, цитат, сносок и пояснений Владимир Левашов ведет рассказ об изменении роли фотографии в мире и об изменении мира посредством фотографии. Важность книги в первую очередь в том, что в ней затрагивается не только — как обычно — художественная фотография и ее эволюция, но и документальная, социальная и научная. Автор рассказывает о коммерческих снимках, о появлении салонов и об оплате работы моделей, о форматах изображениях, подходах к съемке и печати, о том, кому, когда и зачем фотография стала необходима. Повествование начинается с долгой и подробной истории изобретения фотографии и, проходя сквозь все сферы жизни, где она оставила свой след, заканчивается в 1970 году «смертью автора». Что было дальше, можно узнать у Барта и Сонтаг. Эту книгу нужно читать вдумчиво, отвлекаясь на поиски дополнительной информации об упоминаемых личностях.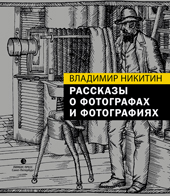 Фотографический опыт как детективный роман. Вместо предисловия автор сообщает о том, что исключает себя из числа тех мастеров, смысл жизни которых сводится к темной комнате, проявке и печати. Владимир Никитин — исследователь с горящими глазами, которому важно не только отыскать факт из истории фотографии и разгадать загадку, ему важен и сам процесс поиска. Никитин — заслуженный преподаватель, рассказывающий о своем предмете точно, подробно и с любовью, а главное — с неподражаемым умением увлечь читателя. В повествовании ясно чувствуется атмосфера интеллектуального общества Ленинграда 1970-х: личный опыт автора переплетается с историческими фактами. Книга читается на одном дыхании и будет интересна даже тем, кого, кажется, совсем не трогает глубинное философское значение фотографии.
Фотографический опыт как детективный роман. Вместо предисловия автор сообщает о том, что исключает себя из числа тех мастеров, смысл жизни которых сводится к темной комнате, проявке и печати. Владимир Никитин — исследователь с горящими глазами, которому важно не только отыскать факт из истории фотографии и разгадать загадку, ему важен и сам процесс поиска. Никитин — заслуженный преподаватель, рассказывающий о своем предмете точно, подробно и с любовью, а главное — с неподражаемым умением увлечь читателя. В повествовании ясно чувствуется атмосфера интеллектуального общества Ленинграда 1970-х: личный опыт автора переплетается с историческими фактами. Книга читается на одном дыхании и будет интересна даже тем, кого, кажется, совсем не трогает глубинное философское значение фотографии.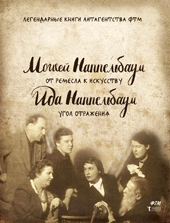 Книга Наппельбаума — исторический роман о фотографии. Об этом виде искусства, в противовес всем концептуальным заключениям и теориям постмодернистов XX века, пишет человек, долгое время снимавший портреты в маленьких фотоателье и не понаслышке знакомый с ремеслом фотографии. Долго и упорно герой приобретает мастерство, культурное воспитание и то, что называется насмотренностью. Повествование ведется от первого лица — честно, подробно, поучительно, с множеством интересных технических фактов, которые чаще всего упускают в своих работах исследователи. Много личного: встречи с великими, работа с известными, то, что повлияло на автора, — короткие рассказы, сплетающиеся в дидактические мемуары, в книгу, которую возможно написать только на исходе жизни и только для потомков. Каждый фотограф в начале творческого пути слышит уверенное: «Главное — насмотренность». Всем советуют ходить в музеи, листать каталоги, знакомиться с творчеством классиков, при этом мало кто из советчиков уточняет, что он имеет в виду, и почти никто не объясняет, зачем же фотографу это необходимо. «От ремесла к искусству» — это рассказ об одной личности в контексте истории фотографии и одновременно подсказка, как прийти к мастерству.
Книга Наппельбаума — исторический роман о фотографии. Об этом виде искусства, в противовес всем концептуальным заключениям и теориям постмодернистов XX века, пишет человек, долгое время снимавший портреты в маленьких фотоателье и не понаслышке знакомый с ремеслом фотографии. Долго и упорно герой приобретает мастерство, культурное воспитание и то, что называется насмотренностью. Повествование ведется от первого лица — честно, подробно, поучительно, с множеством интересных технических фактов, которые чаще всего упускают в своих работах исследователи. Много личного: встречи с великими, работа с известными, то, что повлияло на автора, — короткие рассказы, сплетающиеся в дидактические мемуары, в книгу, которую возможно написать только на исходе жизни и только для потомков. Каждый фотограф в начале творческого пути слышит уверенное: «Главное — насмотренность». Всем советуют ходить в музеи, листать каталоги, знакомиться с творчеством классиков, при этом мало кто из советчиков уточняет, что он имеет в виду, и почти никто не объясняет, зачем же фотографу это необходимо. «От ремесла к искусству» — это рассказ об одной личности в контексте истории фотографии и одновременно подсказка, как прийти к мастерству.


