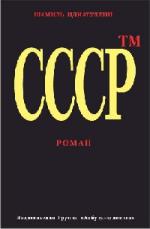- Шамиль Идиатуллин. Город Брежнев. — СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2017. — 704 с.
Тринадцатилетний Артур живет в лучшей в мире стране СССР и лучшем в мире городе Брежневе. Живет полной жизнью счастливого советского подростка: зевает на уроках и пионерских сборах, орет под гитару в подъезде, балдеет на дискотеках, мечтает научиться запрещенному каратэ и очень не хочет ехать в надоевший пионерлагерь. Но именно в пионерлагере Артур исполнит мечту, встретит первую любовь и первого наставника. Эта встреча навсегда изменит жизнь Артура, его родителей, друзей и всего лучшего в мире города лучшей в мире страны, которая незаметно для всех и для себя уже хрустнула и начала рассыпаться на куски и в прах.
Шамиль Идиатуллин — автор очень разных книг: мистического триллера «Убыр», грустной утопии «СССР™» и фантастических приключений «Это просто игра», — по собственному признанию, долго ждал, когда кто-нибудь напишет книгу о советском детстве на переломном этапе: «про андроповское закручивание гаек, талоны на масло, гопничьи „моталки“, ленинский зачет, перефотканные конверты западных пластинок, первую любовь, бритые головы, нунчаки в рукаве…». А потом понял, что ждать можно бесконечно, — и написал книгу сам.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
6. После третьих петухов
— Зря на дискотеку не осталась, — громко сказал я, дожидаясь, пока опять отставшая, оказывается, Танька догонит.
— Говорю же… Репетиция… Ты-то… Оставался бы… — пропыхтела она, размахивая руками, как пьяный дирижер.
— Да нет уж. Давай уж я посмотрю, что такое настоящее, это самое, театральное мастерство.
Я на самом деле обиделся.
Придумать номер для выступления на праздничном концерте оказалось не то что трудно, а почти невозможно. Все, что я предлагал, не нравилось Витальтоличу, и наоборот. Я бы вообще на выступление забил, а Витальтолич, небось, одобрил бы, если бы не обещание Марине Михайловне. Обещания любые надо выполнять, но вот такое — особенно.
От отчаяния я принялся листать валявшиеся дома древние книжки и в одной, вытащенной, кажется, из макулатуры пару лет назад, нашел рубрику «Школьный театр», и в ней — длиннющий стих Сергея Михалкова про то, как неспокойно жить на свете, если где-то в кабинете созревает план войны. Он был, конечно, зверски похож на все остальные стихи Михалкова про дядю Степу, ДнепроГЭС и про то, как встали с русскими едины белорусы-латыши и молдаванечуваши, а татары почему-то не встали, что, помнится, страшно оскорбляло Дамира, заставляя рассказывать, какие татары Герои Советского Союза и вообще молодцы. В стихотворении, которое я нашел, не было ни татар, ни молдаван с чувашами, зато были Зимний со Смольным и Пентагон с ракетами — то есть и в тему, и актуально.
Витальтолич, когда я показал книжку, пожевал губами и сказал:
— Вот ни фига себе.
И рассказал, что слышал этот стих недавно, в «Юном литейщике». Его читали на концерте в честь открытия третьей смены. Правда, текст был короче раза в два и кончался куда воинственней. В книжке после строк «Всевозможные ракеты есть, конечно, и у нас. Мы не делаем секрета из того, что то и это круглый год — зимой и летом наготове! Про запас!» шли слова про то, что мы готовы «ради мира и труда с этой техникою новой распрощаться навсегда» — ну и дальше про миру мир. А пацаненок в лагере после «Про запас» продекламировал: «Так сказать, на всякий случай, чтобы мог в любой момент в нашей технике могучей убедиться президент». И убежал под овации.
Я подумал и сказал:
— Круто ваще. А что значит «убедиться в технике»?
— Ну, в смысле, поймет, что броня крепка и все такое, — сказал Витальтолич.
Он явно не понял вопроса. Я решил не занудствовать — ну и не учить лишнего. К тому же такая концовка была интересней. И мы решили учить вариант «Юного литейщика».
Я две недели репетировал, перед зеркалом даже, интонации менял, охрип два раза, помимо своего стиха нечаянно вызубрил еще штук семь, полдесятка песен и даже вроде пару танцев —пока на репетиции эти долбаные ходил как проклятый.
И все для того, чтобы Танька после концерта в ответ на мое небрежное «ну как?» сказала:
— Ну, ты хорошо читал.
Хорошо, блин. Я шикарно читал, мощно, аж стены тряслись, занавес качался и первые ряды щурились — а потом хлопали так, что чуть ли не кровь из ладошек брызгала.
Я пожалел даже, что мамку с батьком не позвал. Они вообще не знали про мое выступление. Я подумал, ну на фиг, вдруг облажаюсь, стыдоба будет — особенно если они примутся жалеть или, наоборот, рассказывать, что все дураки, а я один красавчик и выступил роскошно.
А я на самом деле роскошно выступил, да вот оценить оказалось некому. Даже Витальтолич, гад, не пришел — на работе у него не срослось, извинялся через Марину Михайловну. Сама Марина Михайловна похвалила — ну как похвалила: когда я ушел за кулису под аплодисменты, пролетела мимо, молча показывая большой палец. От пацанов я, конечно, ничего, кроме тупых приколов, не ждал и спрашивать ни о чем не собирался — фигли нарываться-то. А вот Танька, похоже, в коридорчик, куда вела дверь из-за кулис, прибежала специально, когда я выпускал остатки пара, бродя туда-сюда, прижимая пылающие ладони к холодным синим стеклам и прислушиваясь, что там в зале и не требуют ли «Генералов в Пентагоне» на бис. Но там уже вальсировали пятиклашки из танцшколы. И в такт вальсу раздалось цок-цок-цок, цок-цок-цок.
Танька почти вбежала, увидев меня, замедлила шаг, отсалютовала и сказала: «Привет артистам!»
Которые, значит, просто хорошо читают.
— А играл, значит, плохо? — уточнил я.
— Ам-м, — сказала Танька. Явно хотела поинтересоваться, правда ли, я еще и играл, но быстренько нашла этой реплике замену: — Интонацию взял верно, артикулировал хорошо, и вообще — громко так…
— Как Денис Кораблев, да, громче Козловского? — вспомнил я и решил, что пора оскорбиться всерьез. — Умные все, блин. Посмотрел бы я, как ты читаешь ересь такую и перед толпой, главное.
— Правда? — спросила Танька, распахнув глаза. Не голубые и не карие, оказывается, а серые с черными крапинками — только теперь разглядел.
— В смысле — что правда?
— Правда посмотрел бы?
Теперь уже я сказал «ам-м», но совсем без мыслей. То есть пара мыслей возникла, но таких дебильных, что лучше на них не останавливаться.
— Пошли тогда, — решительно сказала Танька, по няв, видимо, что ответа поумнее от меня не дождется.
— Куда?
— Ну, ты же хотел посмотреть, как я ересь всякую читаю.
— Что, прямо сейчас?
Танька смотрела на меня.
— Ну пошли, — сказал я.
Я шел, а Танька бежала — и к остановке, и от остановки. Медленная она какая-то, к тому же сапоги, видать, скользят. Я подзадолбался останавливаться и поворачиваться, ожидая. Танька, похоже, тоже подзадолбалась. Окликнула меня, когда вышли из автобуса, и я рванул к переходу. Я остановился и посмотрел нетерпеливо. Было холодно, вдоль проспекта Мира, как всегда, свистел ветрила, а ДК горел входом и поясами окон уже рядышком, осталось дорогу перейти и площадь пересечь.
— Артур, ты правда меня до ДК проводишь и на репетиции останешься? — спросила Танька, очень медленно подходя.
— Ну да, сказал же, — подтвердил я недовольно.
— Тогда руку давай.
Блин, подумал я, посмотрел по сторонам и неловко подставил локоть. Танька взялась за него очень ловко — не вцепилась, не прижалась и не повисла, как многие бабы на парнях висят, — но и буквой «Ю» не держалась, чтобы, значит, обязательно длинная черточка посредине. Она именно опиралась на мой локоть, но не как на перила, а как, не знаю, на дружеское плечо. Возможно, именно это и называется чувство локтя, а не то, чем нам классная в той школе плешь проедала. Увидела бы она меня сейчас — ну или не она, а наша Ефимовна, например, — припадок бы случился, точно говорю. Не хотелось бы, чтобы увидела, конечно. А может, и хотелось. Да какая разница — все равно придется идти так, как не мне, а Таньке удобно, то есть сильно медленнее.
Танька, кстати, тоже сменила аллюр. Теперь она шагала не смешной походкой матросика, который готовится к танцу вприсядку, а нормально, как в школе примерно. И говорила спокойно, будто так и надо — вечерами с одноклассником под ручку рассекать:
— О, еще без десяти только. Я обычно минут сорок добираюсь, что от школы, что из дома, а с тобой как на космическом корабле «Союз» просто.
— Побежали? — предложил я, как тот джинн из анекдота.
— Э, не-е!
Танька, похоже, совсем не заигрывала и не смущалась. Вообще вела себя очень естественно. Я успокоился и тоже решил быть естественным.
— Что ставите-то? — спросил я и решил блеснуть образованностью: — «Гамлета», небось, как большие?
Танька на подковырку не повелась:
— «До третьих петухов», по Шукшину.
— О. Про жуликов, что ли, как в «Калине красной»?
Танька улыбнулась.
— Можно сказать, и про жуликов. Сказка. Для взрослых.
Сказка и впрямь оказалась для взрослых. Совсем. Мне пару раз даже неловко стало —хотя в основном я ржал как дурак. Я такого в театрах не видел.
То есть я в театрах толком и не был, два раза в «Автозаводце» и разок в ДК КамАЗа как раз: из других городов приезжали ТЮЗы со спектаклями про Карлсона, Хоттабыча и Мюнхгаузена. Но то утренники совсем, хоть и со взрослыми актерами. А тут — вроде сказка, но какая-то недобрая и царапающая. Про Ивана-дурака, которого послали за справкой, что он умный.
Дурака играл пацан класса из десятого. Сперва он мне совсем не понравился: рыхлый, рыжий и рожа туповатая. А потом я сообразил, что рожа туповата по роли, а роль непростая. Иван-то, как обычно, когда дурак, а когда наоборот, хоть и не очень симпатичный, честно говоря. Ну и остальные персонажи тоже не очень симпатичные, хоть и прикольные. Например, тройка пацанов примерно моего возраста выглядела и вела себя очень по-разному — один как комсомольский активист, второй как зачморенный отличник, а третий такой в натуре автор, — не знаю, по роли или нет, но двигался, говорил и даже как будто сплевывал он как натуральный конторский пацан. Широкие штаны, олимпийка, лысая башка, все дела. А я, дебил, только минуте на пятой понял, что они не просто так всю дорогу втроем ходят, не отступая друг от друга, а изображают Змея Горыныча, три его головы. Когда дошло, я чуть под кресло не рухнул. Классная же идея, все такие разные — и все одно и то же. Сразу вспомнились три источника и три составные части, я представил себе Горыныча с бошками Маркса, Энгельса и Ленина и вообще чуть не сдох от смеха со стыдом пополам. Не дай бог, сболтну кому, блин. Но тут отличник сказал по какому-то поводу: «Источники», комсомолец поправил: «Составные части», а конторский вскинулся: «Кому на?!» — и я вздрогнул и понял, что не сам по себе антисоветчину представил, а после прозрачной подсказки со сцены.
Я торопливо, хоть и со скрипом, переключился обратно на репетицию — и тут же скрип исчез, потому что на сцене начались совсем недетские шутки. Иван-дурак неприлично, растопыренными пальцами и ширинкой вперед, крутился вокруг дочки Бабы-яги, а та, крутя пальцем у щеки, то поигрывала бровками, то вдруг нависала над Иваном, почти попадая в его ладони разными интересными местами, и басовито рычала лозунги на какие-то совсем левые темы. Зрелище было довольно ржачным, но ржать я не мог, потому что дочку Бабы-яги играла Танька.
Мне не понравилось, как она играла, говорила и вообще вела себя. Как шмара какая-то, честное слово. Я даже сомневался в том, что она играет, а не натурально собирается повалить рыжего на пол и нахлобучиться сверху. Меня аж в жар бросило, так что я потихоньку стянул кофту, оставшись в парадной концертной рубашке. Было неуютно, хотелось то ли свистнуть и рявкнуть: «Э, закончили порнографию там!», то ли тихо уйти, и пусть они резвятся как хотят. Но на сцену выперлась троица Горынычей, которая наехала рыжему на уши так, что я аж крякнул, — причем неожиданно самым жестким оказался не конторский, а комсомолец, по полной, мне рыжего жалко стало.
Я даже немножко отвлекся от Таньки, притихшей и испуганно присевшей в сторонке, от рыжего, которому натурально заломили руки и готовились делать что-то неприятное, и вообще от сцены. Задумался: это что, получается, тот самый случай, когда сказка — ложь с намеком? Типа конторские могут дерзить как хотят, а рыжие перед ними прыгать, но потом придет комсомолец-активист и поставит любого раком? И то гда это, наверное, правильная сказка? А можно и по-другому считать: что комсомолец круче и беспощадней любого конторского — тот в морду даст, а этот вон башку отрезать собирается вполне серьезно. И тогда сказка что — антисоветская? Принято говорить, что власть строгая, но справедливая, с этим фиг поспоришь. А если наоборот — справедливая, но строгая? Или справедливая, но жестокая? Или просто жестокая по-любому, а насчет справедливости уж как получится? И власть не виновата, никто не виноват, просто жизнь так устроена: справедливость в ней то ли есть, то ли нет. Запланирована, но, как говорится, поставщики и смежники подводят. А вот жестокость всегда с перевыполнением плана идет. То, что я это понимаю, — нормально, конечно. А то, что это на сцене показывают или там в фильме, — это разве нормально? По-моему, антисоветчина немножко. Или нет?