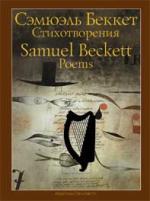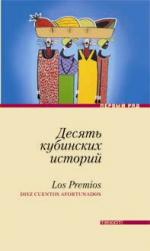Отрывок из романа
1
Подобно остальным нашим братьям из Второй алии, несущей нам избавление, оставил Ицхак Кумар страну свою, и родину свою, и город свой, и отправился в Эрец Исраэль отстраивать ее заново, и поселиться, и обосноваться в ней. С того самого момента, как Ицхак, товарищ наш, себя помнил, не проходило дня, чтобы он не грезил о ней. Благословенной обителью представлялась ему вся эта земля, а жители ее — людьми, благословенными Богом. Поселения ее прячутся в тени виноградников и оливковых рощ, на полях изобилие хлеба, деревья увенчаны плодами, долины полны цветами, леса трепещут на ветру, и все дома полны ликованием. Весь день жители ее пашут, и сеют, и жнут, и сажают деревья, и собирают виноград и маслины, и жмут масло, и давят виноград, а с наступлением вечера усаживается каждый под своей лозой и под своей смоковницей, как в раю, и жена, и сыновья, и дочери его сидят вместе с ним и радуются трудам своим и дому своему, а время, прошедшее вдалеке от Эрец Исраэль, вспоминают, как вспоминает человек в счастливые мгновения горькие дни, и наслаждаются вдвойне. Мечтателем был Ицхак, и все мечты его были о стране, куда звало его сердце.
В мечтах об Эрец Исраэль прошли дни его юности. Некоторые из друзей Ицхака уже женились и открыли свои лавки — они уважаемые люди и признаны в обществе. Появляются они в банке — чиновник предлагает им присесть, приходят они в присутствие — господа отвечают на их приветствие. Часть друзей Ицхака изучает в университетах науки, приносящие почет и благосостояние. Но Ицхак нашел себе другое занятие и тратит все свое время на продажу шекелей )Здесь: ежегодный членский взнос, обеспечивающий право голосования за кандидатов на Сионистский конгресс.) и продажу марок Керен Каемет (Национальный земельный фонд Израиля.). Решил отец отвлечь сына от этих пустых занятий и усадил его в свой магазин. Пусть займется торговлей, станет человеком.
Но как только появился Ицхак в магазине, тотчас превратился магазин в сионистский клуб. Кому нечего делать, приходят сюда. Одни заходят поговорить, другие — послушать, а бывает, приходят так просто, стоят, опираясь на трость, и жуют бороду, а покупатели уходят в другие магазины. Хотя есть в городе Сионистский центр, этот магазин — излюбленное место для любителей пообщаться, так как в центр нужно вносить месячные взносы, а сюда приходят и не платят. Сионистский центр… Каждый, кто приходит туда, считается сионистом. Однако вовсе не каждый желает объявлять себя таковым; тогда как здесь ты волен рассуждать о сионизме, сколько душе угодно, а сионистом тебя не считают. А почему опасаются связать себя с сионистами? Не был в те времена сионизм признан главами поколения, праведниками его; воевали они с сионистами, создающими товарищества для заселения Эрец Исраэль. Это, по их мнению, препятствует приходу чудесного избавления. И потому каждый, кто испытывает страх перед ними и боится их слов, опасается объявить себя сионистом. Но некоторые позволяют себе поговорить о сионизме. Собираются они в магазине Шимона Кумара, и встречают там подобных себе, и зажигают друг друга своим энтузиазмом.
Так прошли для него, для Ицхака, дни его юности, дни, определяющие будущее человека; а он не замечал, что уходит время напрасно, вся его жизнь в изгнании была в его глазах как ничто, а весь смысл его существования — Эрец Исраэль. Остается он один в магазине — сидит и пересчитывает проданные им шекели, делает расчеты: вот если каждый еврей пожертвует один грош в день для Керен Каемет, сколько дунамов можно купить на эти деньги и сколько семей поселить на этих землях? Входит покупатель, Ицхак бросает на него взгляд, как человек, сидящий над кладом, и вдруг — являются и беспокоят его.
2
Видел Шимон, отец Ицхака, чем занят сын, — и досадовал, и огорчался, и переживал. Часто стоял он у входа в свой магазин и сжимал в отчаянии руки или сидел, откинув назад голову и погрузившись в себя. Тот, кто не видел Шимона Кумара, отца Ицхака Кумара, сидящего перед сыном, не видел отцовского горя никогда. Пока не подрос Ицхак, сын его, помогала ему жена; когда она умерла и оставила после себя дом, полный сирот, ожидал отец, что сын будет ему помощником. А чем занимается сын? Мало того что не помогает ему, но еще довел дело до того, что покупатели уходят в другие магазины. Шимон не ссорится с сыном и не уговаривает его, он уже понял, что ссоры и уговоры ничего не дадут. Проклятие пришло в мир — сын не слушается отца, а отец не властен над сыном. И уже отчаялся Шимон иметь отраду от сына. Прислушался он к голосу сердца и согласился отослать Ицхака туда, куда тот желает. Известно, что нет никакого толку от Эрец Исраэль, однако есть все же и польза. Как только убедится сын, что там все не так, вернется в свой город и займется мирскими делами, как все смертные, а остальные дети будут спасены и не последуют за пустыми фантазиями.
Шимон не щадил достоинства сына, и насмехался, и говорил: почему согласен я на его отъезд? Чтобы тот увидел своими глазами, что вся проблема эта, Эрец Исраэль, выдумана сионистами, и выбросил бы это из своего сердца. Ицхак слушал и не возражал. Еврейские дети, не гении и не сыновья богатых родителей, воспитываются в скромности, слушают позорящих их и молчат. Думал Ицхак про себя: пусть говорит папа, что ему угодно, в конце концов, поймет он, что я прав. Так получил Ицхак согласие отца на отъезд. С тех пор как появился он на свет, ни разу он не мог поступать по собственной воле, пока не пришел этот час и не исполнилось его желание.
3
Так была велика уверенность Ицхака в своей правоте, что даже городские шутники все поднимающие на смех, не смеялись над ним. Задумался отец: бытьможет, Всевышний посылает Ицхака, чтобы он стал нашим кормильцем и подготовил нам убежище? Но как только стал он размышлять об отъезде, принялся вздыхать, и тревожиться, и переживать: хоть умри, если знаю я, откуда взять денег на дорогу? Даже если я продам весь свой товар, этого недостаточно. А если бы и хватило, так ведь ни один человек не заходит ко мне в магазин, уже отлучил Ицхак покупателей от моего магазина. Если даже вернутся мои покупатели — они не платят наличными. Вся жизнь Шимона Кумара не что иное, как забота о пропитании. Три поколения кормились на деньги реб Юделе, хасида, его прапрадеда, а в четвертом поколении кончились средства, и не досталось Шимону Кумару, отцу Ицхака, внуку внучки реб Юделе, даже жалких крох. И теперь, когда он нуждается в деньгах, не случилось с ним чуда и не нашел он клад, как его дед реб Юделе. Реб Юделе полностью полагался на Бога, и заплатил ему Господь, благословен Он, по вере его; Шимон, его внук, возлагал надежды на коммерцию, а коммерция — то дает прибыль, то несет разорение. Теперь пришла к Шимону новая забота — достать денег на поездку. В те времена имелись в наличии свободные деньги у городских богачей: но власти издали указ, запрещающий давать деньги в рост, и было опасно давать в долг христианам, которые могли донести властям, а потому богачи ссужали евреям под ограниченный процент. Но где возьмет бедный еврей деньги расплачиваться? Кроме того, наверняка Ицхак не найдет в Эрец Исраэль себе занятия и еще до того, как будут оплачены расходы на его отъезд, вынужден будет Шимон одалживать деньги на его возвращение.
Тем временем подошел срок идти Ицхаку в армию, и не было ни малейшего шанса, что его освободят, ведь онбыл здоровым парнем; денег для взятки воинским чинам у Шимона не было, а служить в армии — это нарушать субботу и есть запрещенную пищу. Поневоле вернулся Шимон к мысли об отправке сына в Эрец Исраэль.
Пошел он к кредитору и занял денег на дорожные расходы, и на одежду, и на обувь; был Ицхак разут и раздет, платье его истрепалось, а башмаки его прохудились. Купил ему верхнее платье, и заказал обувь, и купил шляпу; одежду — из шерсти, башмаки — крепкой кожи, шляпу — черную, фетровую, ведь тогда еще плохо понимали, каков климат в Эрец Исраэль и как надо одеваться в стране этой. Слышали евреи, что Эрец Исраэль — теплая страна, но думали, что теплая — значит, прекрасная, по словам поэта. И вот отправляется сын в места, где его не знают, однако по платью его поймут, что он из хорошей семьи. Затем заказал отец сшить для него шесть рубашек, и погладили их тщательно-тщательно; те, что были у него… дыр в них больше, чем заплат, ведь со дня смерти матери не касалась их женская рука. Если бы удостоился Шимон, то справлял бы сыну свадебную одежду; теперь, когда не удостоился, снаряжал его в путь. Потом снял он с кровати жены подушку и перину и отдал их Ицхаку. Потом купил ему саквояж и мешок, саквояж — чтобы уложить верхнюю одежду и рубашки, а мешок — засунуть в него подушку и перину.
4
Попрощался Ицхак с отцом, и с братьями, и с сестрами, и с остальными родственниками и отправился в путь. К стыду его города, должны мы сказать, что рассталсяон с ним без сожаления. Город, не выставивший делегата на конгресс и не записанный в Золотую книгу (Книга, куда записываются жертвователи Керен Каемет.), — с таким расстаются без сожаления.
Прибыл Ицхак на вокзал, купил себе билет и вошел в вагон поезда. Засунул мешок под скамейку, саквояж зажал в руке и занял себе место; а сердце его стучит как те колеса, что стучат внизу под его ногами, и как колеса эти — стучат, значит едут, так и сердце его — едет. Вчера он опасался, что вдруг случится задержка, и — не поедет. И гляди, что за чудо: никакой задержки не произошло, он — едет. И уже выехал он из пределов своего города и вступил в пределы другого города, а из того другого города — еще в город. И если ничто не помешает в пути, прибудет он через два дня в Триест и поплывет морем в Эрец Исраэль. В мыслях об Эрец Исраэль выбросил он из головы все остальное, и даже Эрец Исраэль как бы затуманилась в его мозгу, так как от сильного сердцебиения спутались его мысли и стерлись воображаемые картины; лишь в глубине души ощущал Ицхак, что он переносится из простой действительности в дивное бытие. Вагон был полон жителями его города и жителями других городов. Эти ехали по делам торговли, а те ехали по всяким другим делам, и во время поездки они сближались друг с другом, как бывает с людьми, оказавшимися в одном и том же месте и ощущающими себя компаньонами, если не в делах, так в разговорах о них. Одни говорили о торговых делах, другие обсуждали дела государственные; одни рассказывали о новостях в их городе, другие перескакивали от темы к теме, как бывает с путешественниками, которых привлекает все на свете, но ничто не задерживает надолго их внимания. Напротив них сидели другие пассажиры и молчали, плохи были их дела с бизнесом, запутались они в них. Еще совсем недавно весь мир радовал их, а теперь весь мир для них печален. Если и удастся им избежать сурового приговора, от суда им не уйти. Дела эти… они еще не в твоих руках, а ты уже попал в их сети. Ицхак не радуется со счастливыми и не грустит с печальными. Все эти занятия, принесенные с собой изгнанием, не стоили в его глазах ни радости, ни печали. Уже отряхнул Ицхак от них руки, а вскоре стряхнет прах изгнания подобно человеку, стряхивающему со своих ног нечто отвратительное.
Поезд петляет меж деревнями и местечками, меж городами большими и малыми. Одни из них — известны благодаря их великим раввинам, другие — известны благодаря их кладбищам. Часть названа по имени плодов их полей и садов, рыб в их реках и минералов в их горах; часть носит имена птиц, животных и многого другого на небе и на земле. Но есть среди них места, которые прославились не столько своей ученостью, сколько своими спорами. Одни освящают имя Господа, Благословен Он, словами «освятим», другие освящают Его — «освятим Тебя», и вот нападают они друг на друга, и налицо — разлад. Есть еще один спор — это спор между ассимиляторами и сионистами. Эти хотят быть похожими на все народы, а те желают быть евреями; и вот нападают они друг на друга, и налицо — разлад. И еще есть один спор: одни ждут чудесного избавления, другие ждут прихода избавления естественным путем; и вот нападают они друг на друга, и налицо — разлад.