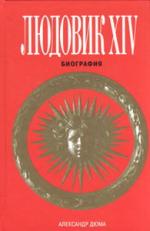Отрывок из книги
20 октября 1948 года. В самом начале третьего года до нас дошли слухи, которые упорно расползались с начала нашего заключения. Все началось с сообщения, которое передала моей жене фрау фон Макенсен, дочь Нейрата. Жена переправила мне письмо, датированное 10 октября, по нашему тайному каналу: «Возможно, вы уже знаете, но на всякий случай сообщаю, что наши заключенные уже не в Шпандау. В течение последнего месяца они, по всей видимости, находятся в доме на боковой улочке, выходящей на Курфюрстендамм. Это вилла с зарешеченными окнами, которую охраняют английские солдаты. Я получила это известие из четырех разных источников, а сегодня один господин из Нюрнберга подтвердил его подлинность. Другие сведения о том, что вчера их вывезли на самолете, в настоящее время явно не соответствуют действительности».
Эти слухи вызвали среди нас всевозможные предположения.
<…>
3 ноября 1948 года. Мы отрезаны от внешнего мира. Никаких газет или журналов. Даже исторические книги нам разрешают читать, только если в них описываются события до Первой мировой войны. Охранникам строго запрещено рассказывать нам о политическом положении. В соответствии с правилами, они не имеют права говорить с нами о нашем прошлом или упоминать наши приговоры. Однако мы более или менее в курсе происходящего. Только что я с помощью небольшой уловки выяснил, что Трумэн вчера победил на выборах в Соединенных Штатах. Я вскользь бросил шотландцу Томасу Летхэму, начальнику охраны с розовым, как у младенца, лицом: «Значит, Трумэна все-таки переизбрали!» Он в изумлении посмотрел на меня: «Как вы узнали? Кто рассказал?» Вот так я и узнал.
На Рождество попросил у семьи два ярких крестьянских платка и альбом для рисования.
<…>
7 декабря 1948 года. Неделю назад нас осматривала американская медицинская комиссия, и потом нам повысили продовольственную норму. Теперь нам дают супы со сметаной, чтобы наши организмы привыкли к более питательной пище.
Меня опять наказали за нарушение правил: на неделю лишили чтения. Это пошло мне на пользу: я острее прочувствовал мир «Дон Кихота». Но не следует сражаться с ветряными мельницами в тюрьме. На мой взгляд, интонация моих записей в целом стала более спокойной и уравновешенной. Вопросы вины, ответственности и наказания, все эти самооправдания и самообвинения отошли на задний план. Часть срока уже прошла. Пока я был поглощен эпохой Возрождения, я ни разу не вспомнил о войне, вооружениях и преступлениях. Вместе с тем
растет ощущение, что Шпандау — своего рода дом. Это тоже вызывает тревогу.
28 декабря 1948 года. Три недели ничего не писал. Но сегодня кое-какое известие выбило меня из колеи. Моя жена прислала мне копию письма от миссис Альфред А. Кнопф, написанного 28 октября. Жена известного американского издателя, опубликовавшего произведения Томаса Манна в Соединенных Штатах, хотела бы издать мои мемуары. «Я понимаю, — пишет она, — что в настоящее время трудно многого ожидать от Альберта Шпеера, и возможности, о которых мы говорили, представляются еще более туманными, чем прежде. Я по-прежнему заинтересована, но если нам придется ждать слишком долго, материал, возможно, утратит свою актуальность».
Находясь в изоляции, я полностью утратил чувство, что еще могу чем-то заинтересовать мир. Все шло своим чередом — и вдруг этот неожиданный сбой. Это меня раздражает, но в то же время приводит в волнение. Несколько недель я провел в задумчивости и теперь снова хочу вернуться к своему прошлому. Если я все осмыслю и запишу, у меня будет материал для большой книги о Гитлере, о которой я думаю все чаще. Сейчас я помню мельчайшие подробности и с легкостью могу воспроизвести многие разговоры почти дословно. События все еще свежи в памяти, и мысли о тех годах обострили мое восприятие. В Нюрнберге мне удалось сделать первые черновые записи по Гитлеру; их уже просмотрели и отредактировали. В Шпандау я должен отправлять свои заметки по тайному каналу, какими бы сырыми они не были. Дома накопится огромная кипа записей; потом я их систематизирую и использую в качестве основы для книги.
3 января 1949 года. По некоторым намекам мы поняли, что альянс между Западом и Востоком развалился. Конфликт привел к разногласиям по поводу подъездных путей к Берлину. Теперь, говорят, в Берлине объявили блокаду. И правда: днем и ночью над нами с шумом пролетают транспортные самолеты. В саду мы обсуждаем, какие последствия все этом может иметь для нас. Постепенно мы приходим к мысли, что в случае окончательного разрыва между Западом и Востоком заключенных вернут тем странам, которые их захватили. Следовательно, меня отправят к британцам. Обнадеживающая перспектива.
Сегодня вместе с Функом стирали белье в ванной комнате. Помещение наполняется паром; по стенам стекают капли воды. Мы постоянно двигаемся, чтобы не замерзнуть, наши деревянные башмаки стучат по каменному полу. Лонг, британский охранник, выходит в коридор. В последнее время Функ любит поговорить о коррупции в Третьем рейхе. Он рассказывает мне о нескольких грузовых вагонах с женскими чулками и нижним бельем, которые Геринг отправил из Италии вместе с военными поездами летом 1942 года для продажи на черном рынке. К товарам прилагался обычный прейскурант, так что было понятно, каких огромных прибылей можно ожидать. Я смутно припоминаю эту историю. Однажды Мильх сердито сообщил мне, что генералу военно-воздушных сил Лёрцеру поручили организовать оптовую продажу на черном рынке. Лёрцер был близким другом Геринга со времен Первой мировой войны. Как и Геринг, он был летчиком-истребителем и получил орден «Pour le Merite», высшую военную награду Пруссии до конца Первой мирвой войны. Пилли Кёрнер, второй секретарь Геринга и его заместитель по вопросам четырехлетнего плана, тоже принимал участие в этих делах. Самое смешное, что привозили, в основном, товары, которые Германия должна была поставлять своему итальянскому союзнику по экспортным соглашениям. Их задерживали и отправляли назад сразу после переезда через перевал Бреннер. Функ говорил с возрастающим возмущением, потом выпрямился и воскликнул: «Какая мерзость!» Продолжая стирку, я возразил, что ему как министру экономики следовало вмешаться и доложить об этих махинациях Гитлеру.
— О чем вы говорите? — ответил он. — Я даже не знал, где они останавливались. К тому же, у Гиммлера наверняка было досье на меня.
В речи перед гауляйтерами осенью
10 января 1949 года. За последние два месяца английского и американского управления я набрал почти семь килограмм. Немецкая поговорка «За решеткой даже мёд кажется горьким» ко мне не относится. К счастью, во время русского месяца всегда наступает фаза аскетизма. Я имею в виду не только продовольствие; скудная пища также меняет смысл жизни человека. Как ни странно, мне кажется, что период русского управления благотворно действует на мой ум. Монашеские ордены, безусловно, понимали связь между лишениями и стимуляцией интеллекта.
<…>
25 февраля 1949 года. Сегодня идет дождь. В одиннадцать часов — время прогулки — Гесс начинает стонать. Все идут на улицу, но он остается в постели. Стоукс приказывает: «Номер семь! Выходите на прогулку!» Мы с любопытством стоим в коридоре и слушаем их затянувшийся спор. «Седьмой, вас посадят в карцер. Немедленно выходите!» Пожав плечами, Гесс встает и без возражений идет в карцер, в котором из мебели есть только стул и стол.
3 марта 1949 года. Сегодня я задался вопросом, был ли способен человек, которому я служил, которого, безусловно, уважал долгие годы, на такие искренние чувства как дружба, благодарность, верность. Иногда я сомневаюсь в его чувствах к Еве Браун; его старые соратники говорили, что он по-настоящему любил Гели Раубаль. Что касается мужчин, он, казалось, был искренне привязан ко мне, своему шоферу Шреку, чей портрет висел в его кабинете рядом с фотографией матери. На ум приходит еще только один человек — Муссолини. Я считаю, что между ними существовало нечто вроде дружбы, причем даже больше со стороны Гитлера. Да, в конце войны Гитлер хотел отобрать у Муссолини северные провинции. Но это скорее говорило о его недовольстве военными действиями союзника и было связано с волной ненависти и мстительности, направленной против примкнувших к лагерю Бадольо итальянцев, которые перешли на сторону врага.
Однако все эти годы до разрыва они были близкими друзьями; и если бы меня попросили назвать человека, к которому Гитлер испытывал искреннюю привязанность, я бы обязательно упомянул Муссолини. Но недавно я вспомнил день зарождения их дружбы. В сентябре
Сначала эта тирада, похоже, вызвала у Гитлера противоречивые чувства. С одной стороны, унизили его нового друга, но в то же время он чувствовал себя польщенным. Когда Геббельс добавил несколько точных замечаний, Гитлер принялся имитировать некоторые позы Муссолини, поразившие его своей странностью: выпяченный подбородок, упертая в бедро правая рука, стойка с широко расставленными ногами. Зрители вежливо смеялись, и он выпалил несколько итальянских или итальянских по звучанию слов, вроде патриа, викториа, макарони, беллецца, бельканто, телеграфико и баста. Его представление всех рассмешило.
Снова став серьезным, Гитлер с гордостью рассказал, как во время визита Муссолини в Мюнхен привил ему любовь к новой немецкой архитектуре. Тогда он прочитал дуче лекцию по современной архитектуре, и теперь тот убежден, что проекты его официального архитектора, Пьячентини, — полная чушь. В 1940 году на Всемирной выставке в Риме, заявил Муссолини, он покажет, чему научился в Мюнхене и Берлине.
12 марта 1949 года. Ремонт в камерах завершен. Мы даже получили новые кровати с металлическими пружинами. Первые несколько дней их упругость казалась такой непривычной, что я не мог спать. На длинной стене я приклеил фотографии родителей, жены и наших детей. Рядом висят репродукции головы из бронзы работы Поликлета, наброска дворца на Акрополе, выполненного Шинкелем, ионической капители и классического фриза. Первое, что я вижу, открыв глаза утром, — Эрехтейон на Акрополе.
Сегодня Пиз шепотом рассказал мне, что ходят слухи о переменах в тюремном устройстве. Из-за политических разногласий совместное предприятие с русскими будет ликвидировано. Мне дали час свидания с женой. Но мне бы хотелось перенести его на июнь. Может, к тому времени здесь все будет по-другому.
<…>
16 марта 1949 года. По сравнению с моими нюрнбергскими зданиями, которые своей строгой структурой внесли восточные мотивы в архитектуру, навевали воспоминания об Ассирии или Египте, в берлинских зданиях того же времени я использовал более яркие сочетания и богатые детали. Я решился на экскурс в священные орнаментальные формы и разработал более неожиданные проекты, потому что к тому времени моя архитектура вошла в моду. Я пытался создать новый стиль, чтобы выделиться из толпы подражателей.
В национал-социалистической архитектуре никогда не было идеологии, хотя я все время читаю утверждения об обратном. Единственным требованием были сверхбольшие размеры. Гитлер хотел производить на людей впечатление и в то же время внушать им страх огромными пропорциями. Так он надеялся обеспечить психологическую поддержку своего правления и правления своих преемников. В этом смысле программа была идеологической. Но это никак не влияло на стиль. Такова моя позиция.
18 марта 1949 года. К моему удивлению, советский директор только что вошел в мою камеру. Он осмотрелся вокруг, проверил, все ли в порядке, спросил сухим, но не враждебным тоном «Как дела?», и вышел, не дожидаясь ответа. А я как раз делал записи. Хорошо, что дверь дважды закрывается на ключ и запирается на засов, поэтому сначала раздается лязг замков, и только потом открывается дверь. Я лежу на кровати лицом к двери, согнув ноги в коленях, а на коленях, как на столе, лежит большая книга по архитектуре.
Недавно я разработал новую систему. В случае тревоги я больше не прячу бумаги в карман куртки. Я лежу на кровати с расстегнутой верхней пуговицей на штанах; одно движение под прикрытием книги, и письмо исчезает в кальсонах. Там же я держу резервный запас бумаги и письма, на которые надо ответить: нижнее белье стало моим письменным столом! Бинтами, которые я использую, когда у меня опухает нога, я обматываю штанины кальсон, чтобы заметки или письма не выпали при ходьбе. Мой любимый тайник — в сгибе колена, поскольку бумага не выпирает из-под брюк, когда я работаю.
26 марта 1949 года. Очень горько, что я не могу присутствовать на конфирмации моего сына Альберта. У нас были хорошие отношения, но когда я возвращался домой в Берлин-Шляхтензее после долгого рабочего дня, как правило, очень поздно, меня ждала только жена. Дети к тому времени давно спали. Часто я не видел их целыми неделями. Во время войны должность министра вооружений отнимала столько времени, что они росли практически без отца. Я был всего лишь человеком, который изредка забегал домой и приносил сласти. Я пытаюсь написать письмо к конфирмации Альберта и понимаю, что мне все труднее говорить с ним. Я больше не могу найти правильный тон. К тому же у нас нет новых общих впечатлений. Детям несомненно становится все труднее сохранять представление о том, какой я человек.
3 мая 1949 года. Пятинедельный перерыв, но не из-за апатии. Я раздобыл рейсшину и угольники и впервые за несколько лет начертил детально проработанный проект. Меня очень радует эта деятельность, а также новый вариант моего дома для среднего класса. Я так увлекся работой, что снова стал делать подробные чертежи фасадов в масштабе. Этот проект получился особенно хорошо — строгий фасад с улицы и немного легкомысленная южная сторона.
13 мая 1949 года. Чудесная весенняя погода. Джон Хокер, который обычно держится отчужденно, рассказал мне, что в Берлине идет подготовка к конференции министров иностранных дел, после которой ожидается снятие блокады с Берлина. Может быть, Хокер хочет развеять упорные слухи о том, что нас переводят в окрестности Гамбурга из-за политических разногласий между союзниками. Другой охранник, всегда веселый американец Донахью, подтвердил информацию Хокера. Значит, ей можно верить; Хокер способен придумать какую-нибудь новость, лишь бы лишить нас надежды.
Небо сегодня словно подкрасили синькой; кажется, можно заглянуть в самую его глубину. Обычно такое небо бывает только в горах. Во всяком случае, я видел только там — поднимаясь на вершину, катаясь на лыжах, или в Оберзальцберге. Лишь в Шпандау я осознал, какая спокойная, какая семейная царила там атмосфера — скорее летняя резиденция преуспевающего промышленника, чем горный замок неприступного фюрера, который с такими мучениями занял положение государственного деятеля и который даже в моей памяти все больше принимает черты исторической абстракции.
Мы непринужденно стояли на террасе, а дамы располагались в плетеных шезлонгах с подушками, обитыми полосатой красно-белой материей. Дамы, как на курорте, подставляли лица солнцу, так как загар был тогда в моде. Облаченная в ливрею обслуга, избранные члены СС из охранного батальона Зеппа Дитриха, с безупречными манерами, которые казались чуть фамильярными, разносила напитки: шампанское, вермут с содовой или фруктовые соки. Рано или поздно появлялся камердинер Гитлера и сообщал, что фюрер выйдет к нам через десять минут; что он отдыхает наверху после долгого совещания. В один из таких дней, когда обед задерживался больше чем на час, я помню невысокого энергичного доктора Отто Дитриха, пресс-секретаря Гитлера; доктора Карла Брандта, врача, который всегда должен был находиться при Гитлере на случай травм или покушения; полковника Шмундта, адъютанта вооруженных сил с невероятно торчащими ушами; адъютанта армии Энгеля, всегда готового пошутить; Вильгельма Брюкнера; и, конечно же, Мартина Бормана, чьи неуклюжие старомодные ухаживания не находили ответа у дам, кроме одной из молоденьких секретарш Гитлера, которая визгливо хихикала. После сообщения о скором появлении Гитлера гул голосов становится тише, взрывы смеха прекращаются. Женщины переходят почти на шепот, продолжая болтать о нарядах и путешествиях. Ева Браун берет с шезлонга кинокамеру; рядом с ней Негус, черный скотч-терьер, названный в честь императора Абиссинии. Она собирается снимать торжественный выход.
Гитлер появляется в цивильном платье, в прекрасно сшитом костюме, хотя и немного вульгарном. Галстук подобран неудачно. Несколько недель назад Ева Браун не раз предлагала выбирать ему подходящий галстук, но он отмахнулся от предложения. Несмотря на хорошую погоду, на нем велюровая шляпа с широкими полями — чуть шире, чем предусмотрено модой, потому что он легко обгорает на солнце. Может, ему просто нравится бледность; во всяком случае у него нездоровый цвет лица. Небольшое брюшко придает всему его облику статность и удовлетворенность.
Гитлер дружелюбно приветствует каждого из гостей, спрашивает о детях, личных планах и обстоятельствах.
С момента его появления обстановка изменилась. Все напряжены, явно пытаются произвести хорошее впечатление. Но Гитлер хочет непринужденного общения, которое не будет казаться рабским, а наоборот, позволит людям вести себя естественно и на время забыть о том, что по возвращении в Берлин эти же люди снова будут заискивать и угодничать. Здесь Гитлер старается вести себя весело и доброжелательно, своим поведением побуждая нас расслабиться.
Проходит еще полчаса, прежде чем нас приглашают к столу. Впереди идет Гитлер, за ним следует Борман с Евой Браун. Мы проходим мимо гардеробной. Развеселившись, один из молодых адъютантов примеряет шляпу Гитлера, которую слуга только что отложил в сторону; шляпа слишком велика и сползает ему на уши.
Хотя родственный интерес Гитлера к нам явно был скорее формальностью, чем искренней заботой, в таких случаях он вел себя менее сдержанно и почти никогда не рисовался. Иногда он уверял, что женщины хрипят от возбуждения в его присутствии, но о дамах Оберзальцбурга я этого сказать не могу. Похоже, им приходилось сдерживать себя, чтобы не подшутить над Гитлером. В этом близком окружении он не мог скрыть своих слабостей, хотя и очень старался.
Иногда его попытки соответствовать своему представлению о достоинстве государственного деятеля приводили к забавным результатам — например, когда он обращался к принцам «ваша высочайшая светлость» или с преувеличением изображал галантного рыцаря в присутствии дам. В 1934 году я сопровождал его в Веймар, где он нанес визит вежливости сестре Ницше. На пороге Гитлер отвесил ей немыслимый поклон и вручил огромный букет цветов, который его слуге пришлось сразу же у нее забрать — букет был слишком велик для дамы, и она не могла его удержать. Она явно была смущена. В гостиной Гитлер обратился к ней с церемонной речью, которую я до сих пор вспоминаю с изумлением и улыбкой. «Высокочтимая милостивая госпожа, — начал он, — какое счастье видеть вас в добром здравии в вашем достопочтенном доме. С выражением глубокого и неизменного уважения к вам и вашему достойному брату позвольте по случаю этого визита передать вам скромный дар в виде пристройки к этому дому, столь тесно связанному с великой традицией». Не найдя, что ответить, Элизабет Фёрстер-Ницше предложила нам сесть.
В 1939 году моя мать жила с нашими детьми в Оберзальцберге, пока мы с женой ездили в отпуск. Гитлер часто приглашал ее на обед в узком кругу. Как я потом узнал, Гитлер проникся к ней симпатией и, по всей видимости, выражал свое уважение с той же велеречивостью, что и сестре Ницше. После этих визитов моя мать, никогда не разбиравшаяся в политике, изменила свое мнение о Гитлере и его работниках. «Они все настоящие нувориши. Даже еду подают каким-то невообразимым образом, стол сервирован безвкусно. Гитлер был ужасно мил. Но это мир парвеню!»
14 июня 1949 года. Месяц назад сняли блокаду Берлина, и жена смогла приехать на свидание. Свидание было пыткой, для нее, наверное, даже больше, чем для меня. Под взглядами пяти или шести человек мы не смогли сказать ни одного нормального слова. Тем не менее, это большое событие. По крайней мере, мы в течение часа смотрели друг на друга. Я был очень рад, что она выглядит гораздо лучше. Когда мы виделись в последний раз три года назад перед объявлением приговоров в Нюрнберге, она казалась усталой и измученной. Все эти три года ее изможденное лицо стояло у меня перед глазами и терзало мне душу.
<…>
20 июня 1949 года. Убедившись, что за нами никто не наблюдает, Пиз шепотом сообщил мне, что западные зоны оккупации снова стали независимым государством и получили название «Федеративная Республика». Восточная зона провозгласила себя «Демократической Республикой». Как бы там ни было, через четыре года после падения рейха Германией вновь управляют немцы, а не оккупационные власти.
Под стать обострившемуся политическому конфликту в нашей тюрьме идет гражданская война между Востоком и Западом из-за работы в саду. Русский директор требует убрать несколько клумб с распустившимися цветами. По его словам, цветам не место в тюремном саду; к тому же в правилах они не предусмотрены. Западные державы, жалуется он, постоянно нарушают обязательные соглашения. После долгих переговоров стороны достигают компромисса: цветы мы больше не сажаем, но те, что уже растут в саду, разрешено оставить.
24 июля 1949 года. Русский месяц. Голодное время. По утрам — треть литра густой ячменной похлебки, кофе из цикория, несколько кусков хлеба; днем — жидкий суп, кисловатый на вкус, и такое же количество хлеба; вечером — картофельное пюре, несъедобное мясо, крошечный кусочек масла и опять хлеб. Так продолжается изо дня в день без малейших изменений. Когда я жалуюсь на однообразное питание, охранник говорит мне: «В Москве снаряжали экспедицию на Дальний Восток. Среди разрешенных вещей был граммофон и пятьдесят пластинок. Когда исследователи решили послушать музыку в своей палатке, оказалось, что им прислали пятьдесят экземпляров одной и той же пластинки».
26 июля 1949 года. Сегодня, услышав во дворе обрывок разговора о Гитлере между Дёницем и Ширахом, я внезапно осознал, как холодно я думаю и пишу о нем. Ведь я был рядом с ним больше десяти лет, я обязан ему своей карьерой и славой. Более того, мне было хорошо в его обществе — во всяком случае в мирные годы. Я сознательно или неосознанно закрывал глаза, когда не замечал его неуклюжей напыщенности, плохо подобранных галстуков, огромных букетов — или я сейчас обманываю себя и других, когда постоянно принижаю его даже в собственных глазах? Если не ошибаюсь, за последние несколько месяцев я не упомянул ни одной привлекательной черты его характера; в общем-то, во мне не осталось ни капли верности ему. Это предательство?
27 июля 1949 года. По-прежнему размышляю о своих взаимоотношениях с Гитлером. Тема предательства.
28 июля 1949 года. Не могу разубедить себя; я — предатель. И не только потому, что Гитлер утратил все права на мою преданность; нельзя быть верным чудовищу. Но иногда я задаюсь вопросом: может, во мне сидит какое-то необъяснимое чутье, которое, хочу я того или нет, заставляет меня подчиняться духу времени; словно преобладающее течение тащит меня за собой. Мое чувство вины в Нюрнберге, безусловно, было абсолютно искренним, но жаль, что я не испытывал его в
1 августа 1949 года. Дождливое лето с холодными ветрами и грозами, часто льет, как из ведра. Но я все равно загорел. В двенадцать часов русские покинули тюрьму. На сторожевые башни вернулись американские солдаты. Русские автоматы были обычно направлены в нашу сторону, в сад, а оружие американцев нацелено наружу.
На обед давали баранину с вареным картофелем и еще столько разных вкусностей, что я, наверное, полночи не засну. Днем нас взвешивал американский врач. За прошедший месяц каждый заключенный похудел примерно на три килограмма.
Гессу смена меню тоже пошла на пользу. После медосмотра мы вместе сидели на лавочке, греясь на солнце. Я пытался завязать с ним разговор. Поскольку политика — тема щекотливая, и ее обсуждение ни к чему не приведет, а Гесс оживляется, только когда речь заходит о прежних временах, я заговорил о Еве Браун. Я рассказал ему об одном случае, свидетельствующем о чрезвычайной холодности Гитлера. Однажды весной
11 сентября 1949 года. Минуло еще шесть недель. Месяцы сменяют друг друга. Я где-то прочитал, что скука — единственная мука ада, о которой забыл Данте.
30 сентября 1949 года. Конец третьего года. Сенсационные события нашего лета: сотни воробьев стащили семена подсолнуха. Мы собрали скудный урожай овощей. Но мои цветы радуют глаз; среди них теперь появились люпины дивного розового цвета, выросшие из английских семян. Я опять прочитал дюжины книг — без всякого интереса. Продолжаю учить английский и французский, хотя не вижу в этом никакого смысла. Скоро снова возьмусь за рейсшину и угольники и начну проектировать дом. Все бессмысленно.