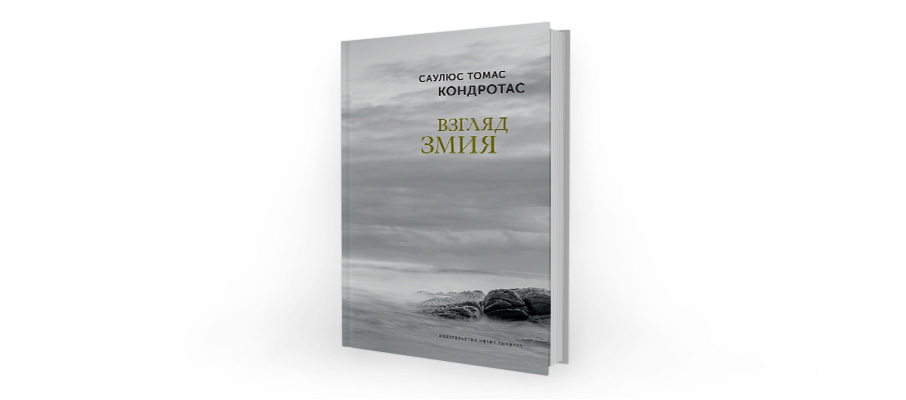- Саулюс Томас Кондротас. Взгляд змия / Пер.с лит. Т. Чепайтиса. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2017.— 368 с.
Саулюс Томас Кондротас — литовский прозаик, сценарист, автор трех романов и пяти сборников рассказов и повестей. Преподавал философию в Вильнюсской художественной академии, в 1986 году эмигрировал на запад, работал на радио «Свободная Европа» в Мюнхене и Праге, с 2004 года живет в Лос-Анджелесе, где открыл студию макрофотографии. В романе «Взгляд змия» (1981) автор воссоздает мироощущение литовцев XIX века, восприятие ими христианства, описывает влияние на жизнь человека рационально необъяснимых сил, любви, ненависти, гордыни. Роман переведен на пятнадцать языков, экранизирован в Литве и Венгрии.
Ничего подобного я не испытал, услышав о намерениях дедушки покинуть сей мир. Дед, казалось мне, такой крепкий, стойкий, что и после смерти должен чувствовать себя неплохо. Просто он переселится куда-то вниз, обоснуется там, срубит избушку и станет жить-проживать жизнь вечную, выращивая капусту и разводя червей шелкопряда.
И все же его было жалко. Может, даже не его, а мир, которому суждено потерять такого человека, одинаково красиво раскидывающего навоз в полях и нюхающего жасмин. Отчего миру вздумалось отмежеваться от дедушки? Кто займет в нем его место?
Под гнетом таких мыслей и чувств (ибо у меня в голове все слепилось в серо-буро-малиновый ком, заполнивший черепушку и давивший на нее изнутри) я пошел к пчелам и сел в траву среди ульев. Насекомые кружили над моей головой, ожидая новостей, но я молчал и, прищурившись, чтобы лучше видеть, наблюдал за отцом, сидящим на бревне рядом с хлевом. Было неловко смотреть, как он ждет. Ожидание и покой схожи. И мой отец, с виду спокойный, внутренне трясся и кипел, словно бык, не могущий дождаться, когда приведут корову. Так мерзко ждать смерти своего отца, но избежать этого мой батюшка не мог. Быть может, человеку со стороны показалось бы, что отец совершенно спокоен, разве что чуть печален, но я-то его видел насквозь, хотя по малолетству не всегда понимал. Ничего не попишешь. Мы — Мейжисы.
Два последних года дедушка страдал от болезни позвоночника. Она примерно раз в три дня вызывала у него сильные боли, но потом снова отпускала. Нет таких трав, зелий и заговоров, которых бы не ведали Мейжисы и которыми не пользовали бы нашего старца, но все напрасно.
— Как бы учен ни был человек, — говаривал дедушка, — все равно многие болезни останутся неизлечимы. Мы в силах врачевать те недуги, которые на нас напускает нечистый, и обучать этому других, но супротив тех, которые нам посылает Всевышний, мы бессильны. Боли мои — не болезнь, а глас Божий, зовущий к себе.
Большую часть утра дед маялся в мокрой от густого пота кровати, и так до самого полудня. Потом боль спадала, и дедушка вновь глядел на нас блекло лучащимися янтарными глазами или читал священные книги, мирный, словно апостол в саду на склоне масличной горы. Однако два дня назад начавшийся приступ не окончился, как обычно, через несколько часов, но рвал и метал щуплое тело старого Венцловаса, примерно в два аршина пять вершков длиной, днем и ночью, снова днем и опять ночью, дедушка все укорачивался и укорачивался, его пробивал уже не пот, а крупные капли крови, стекавшие по желтой тоненькой коже в постель, мерзко ее пачкая. Теперь уже и я по сравнению с дедом выглядел мужем, сидящим у детской колыбели. дедушка усох никак не меньше, чем гефсиманский сад на склоне масличной (Елеонской) горы. На пять вершков, а весил он, на мой взгляд, всего пуда три, как овечка. Я едва мог заставить себя на него смотреть, и кабы не дедова ясность ума, очевидное доказательство того, что он — Мейжис, я бы его даже чурался. Слишком уж он напоминал иссохшего висельника, которого мы с отцом нашли однажды весной на расцветшей ветви плакучей ивы, в полуверсте от нашего пастбища: он висел там с осени.
Итак, мучения дедушкины никак не могли закончиться, и, признаюсь, мне не хватало лишь отеческого слова, чтоб окончательно поверить в неизбежность дедова конца.
Я размяк в пахнущем медом воздухе пасеки, задремал и не почувствовал, как спустились сумерки. Разбудил меня скрип травы у отца под ногами. Если б не звук, можно было бы подумать, что дедова душа пришла проститься с пчелами — так легко и незримо подошел отец.
— Вставай, Криступас, пошли домой, — сказал он приглушенным голосом.
Я вздрогнул:
— Уже?..
— Нет, — покачал головой отец. — Твой дед жив. Боль прошла, но, кажется, ненадолго.
Я поднялся, и мы пошли к дому рядом, плечо к плечу. Я вновь почувствовал головокружительную зависимость: Мы — Мейжисы, мы — род единый, и в каждом из нас живем все мы. Так, внутри меня живут и отец, и дедушка Венцловас, а я живу в них. И если даже я когда-нибудь останусь один, 20 я все равно буду мейжисом, и род наш не прейдет вовеки — неважно, умрет ли кто из нас или нет, — как не прервался он до меня. думая об этом, я захотел обсудить свои мысли с отцом, но не мог: мы — Мейжисы. Мы шли по траве сада, примерно одного роста, потому что отец ненамного выше дедушки, а я, скорее всего, заметно их обгоню, чувствуя спиной взгляды тысяч Мейжисов, обитающих в далеком прошлом. Они пришли встретить дедушку, так когда-нибудь будут ждать и нас, а наши внуки и правнуки будут чувствовать спинами их незримые глаза. Думаю, все мы встретимся в день последнего суда, и как это будет прекрасно! Ужасы конца света и Страшного суда — пустяк, если все мейжисы смогут увидеть друг друга. Думаю, мы будем смеяться, как дети, и дедушка тоже, и никого это не удивит. Но пока мы идем домой проститься со старейшим, и я, непонятно почему, тихо заплакал, отец же не бранил меня и не утешал.
Дедушка, такой седенький и тщедушный — одни кости да глаза, начинающие утопать в черепе, — лежал в постели, дожидаясь нас. Отец первым встал на колени, я за ним.
— Слушайте меня, Сципионас и Криступас, — голос чистый, ровный, словно он пел «месяц рогатый на солнце женился», — не сегодня-завтра я умру. Не хочу оставлять вам ни завещаний, ни наставлений, как себя вести и как распорядиться имуществом. Ваша кровь даст вам самый верный совет. Все остальное вы и так знаете, а коли Криступонька в чем-то усумнится, ты, Сципионас, объяснишь ему и его наставишь. Дело это нехитрое, малец не по годам мудр. Следуйте нравственным заповедям, из которых главнейшая — сохранить в чистоте и невинности сердце. Порок отличите по запаху. Это всё. Теперь насчет поминок. завтра же ты, Сципионас, заколешь двух свиней, зарежешь с десяток кур, купишь две бочки пива, доброго, чтобы в голову било, не мути какой. Купи и водки, сколько штофов — сам знаешь, но непременно ржаной. От картофельной голова болит. Завтрашний день ты посвятишь этим хлопотам, народ пусть соберется послезавтра. До тех пор я еще протяну. Когда умру, обряди меня в свой костюм, который пошил в прошлом году на Пасху.
Отец открыл было рот, но дедушка махнул ему, чтоб заткнулся.
— Костюма жалко для родного отца? — голос деда стал твердым, как кремень.
— Что вы, отец… — К своим хочу прийти ладно одетым. Пошьешь себе другой костюм. Так вот, чтобы все было на мне — сорочка, жилетка, брюки, воскресные туфли и шейный платок. Смотри не забудь. Ты, Криступас, ему напомнишь. Такова моя воля. О самих похоронах не скажу ничего. Похоронишь меня, Сципионас, по обычаю и так, как велит тебе совесть. Да не забудет никто, что провожают Венцловаса Мейжиса. Кви.
— Воистину, — прошептал мой отец; французский, на котором иногда заговаривал дедушка, вызывал у него трусливое беспокойство. (Ни бельмеса не понимая в немецком, дед на своей смеси французского с нижегородским как нельзя лучше договаривался с немцами, тогда как французы, когда он к ним обращался, лишь пожимали плечами, моргали и прыскали, не понимая, чего он от них хочет.
— Эх, не тот нынче француз пошел, — разочарованно говаривал дедушка. — Ненастоящий. Зажились они в нашем краю. Родного языка не помнют.
Так или иначе, на отца французские слова производили глубочайшее впечатление, и старый прибегал к их помощи, желая осадить батюшку или заставить его что-то сделать.)
— Хорошо. — Голос деда стал как-то мягче, сердобольнее, само говорение утомляло его. — Больше добавить нечего. Благословляю вас на долгую жизнь. С твоей матерью, Криступас, я уже простился. — Он помолчал. — Ступайте. и дите спать. Темно уже. Не волнуйтесь обо мне. Мне еще многое надо обдумать. Пора готовиться.
Мне кажется, и отец, ложась спать, думал, что, проснувшись, мы не застанем деда в живых. Однако старец был жив, и когда его приехал соборовать священник, выглядел бодрее, чем во все последние дни.
— Не рано ли? — усомнился священник, но, увидев, как истощено тело дедушки, опустил глаза. — Должен поздравить вас, сударь, с подобной силой духа. Господь милосерден.
— Мы — Мейжисы, — скромно ответствовал дедушка.
Он не позволил нам присутствовать при совершении таинств, и вернуться в избу мы смогли, только когда священник уехал. Оставшуюся часть дня дед лежал тихий, умиротворенный , погрузившись в думы, иногда шевеля губами, когда бормоталась какая-нибудь старинная песнь или вспоминались кем-то сказанные слова, принесшие ему минутку — другую счастья. Ясное дело, это всего лишь мое мнение, будто он мысленно бродил по своему прошлому, в которое вскоре должен был уйти целиком, потому что думать о будущем ему было заказано, а того, что происходило сейчас, он больше не видел. Дедушкины ноздри остались безучастны к запахам вареного и жареного, доносящимся из кухни, уши были глухи к визгу закалываемых свиней, его не интересовали ни голоса пришедших помочь людей, ни путь солнца по кронам яблонь и груш, за которым он мог наблюдать из окна. Он был жив, и только. Ждал, когда все будет готово и он сможет уйти, оставляя место для других Мейжисов, которые когда-нибудь непременно появятся.
На другой день собрались гости: родные и соседи, Мейжисы и не — Мейжисы с капелькой нашей крови. Сошлись и съехались те, кто был ему знаком и близок. Дедушка отогрелся и вновь чуточку повеселел. Выпростал из-под одеяла руку и держал ее так, чтобы вошедший мог ее пожать, отвечал на приветствия, а робких приглашал за стол.
— Совсем отощал ты, Венцловас, — говорили ему одни.
— Худого глухаря резать грешно, — отвечал он.
— Зачем умирать-то собрался? — спрашивали другие.
— Все повидал уже. Дальше будет только повторяться. Кви.
Наконец все собрались, уселись и смолкли, ожидая от дедушки или отца какого-нибудь торжественного слова, чтобы можно было начать печальный праздник.
— Ну, что же вы? — удивился дедушка. — Начинайте. Плесни и мне пива, Сципионас.
И пир начался. Кто хотел, пил пиво, кто хотел — водку, всего было вдоволь. Кушаний тоже достало каких только душеньке угодно. Свекольники с капустными ушками и французскими клецками, две ухи из осетра и одна из семги с лапшой. Фаршированные раки налезали на гренки с пармезóном. На обоих концах стола высилось по русской кулебяке, одна с рыбной, другая с грибной начинкой. Колыхался тут и холодец из свиных копыт, напоминая прохладную желтоватую гладь замерзшего пруда, а фаршированная голова хряка, казалось, не спускала с него прищуренных глаз, подернутых петрушкой. Еще лучше смотрелась красная икорка в судках из тонкого стекла. Зразы с белокочанной капусткой источали дурманящий дух майорана, а колбаса в пиве — странную смесь ароматов пчелиных сот и хмеля. Был там и судак (у нас его зовут сандоком) с перепелиными яичками, и тушеный налим, и бруккóль, начиненная рыбой, и спаржа с раками, и отменные дутые ленивые вареники. А уж как не упомянуть смородину, крыжовник и 26 малину в сиропе и без сиропа, яблочный сидр, цикорий, кофе и сыры — чешские и швейцарские, — да и горьковатые сырки, и много еще разной снеди, всего я сейчас уже не припомню.
Часа через два лица расцвели маками. Выяснилось, что с того времени, как вся честная компания собиралась в последний раз, накопилось много новостей, и похуже и повеселее, которые было необходимо поведать любопытствующим. Люди оживились, отдельные фразы слились в нечленораздельный гул. Я закрыл глаза, и этот единый гул стал для меня голосом своих. Открыв глаза, я встретил дедушкин взгляд. Пращур понял меня.